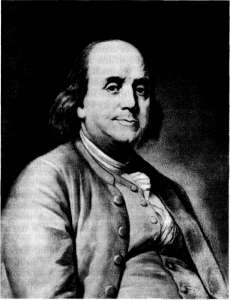
БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН
В истории едва ли не каждого народа бывает момент, когда появляется человек, как бы вбирающий в себя богатство его разнородного и противоречивого опыта, поразительным образом совмещающий в своей личности его наиболее значительные, сущностные черты. Какой стороны этой личности ни коснешься, на всем — при несомненном ее своеобразии и неповторимой индивидуальности — неизменно лежит печать глубокой причастности общей судьбе, тому, чем в это время живет и дышит нация, что отвечает ее насущным заботам и чаяниям, ее ценностям и идеалам.
В Америке восемнадцатого столетия такой фигурой был безусловно Бенджамин Франклин, в деятельности которого находили реальное воплощение устремления молодой нации, стоявшей на пороге самостоятельного пути. Казалось, самой своей жизнью он был призван неопровержимо подтвердить правильность исходных постулатов, которые, как вызов привычному ходу истории и освященному традицией незыблемому порядку, бросила та философия, что определила лицо века и дала ему название. Во всем, что касается его жизненного пути и личности, Франклин был воплощением просветительского идеала свободной личности, разорвавшей оковы идущей издревле иерархической системы и преодолевшей унизительные ограничения социальной регламентации.
Франклин с полным основанием пользовался громкой прижизненной славой. "Выбившись из бедности и безвестности"1"Автобиографии", этот выходец из низов, не получивший сколько-нибудь систематического образования, достиг вершин науки и навсегда вошел в историю своими экспериментами и открытиями в области электричества. Скромный печатник, он стал одним из просвещеннейших умов своего времени, которого признали себе ровней властители дум тогдашней Европы. Писатель и мыслитель, он не только проявлял заботу о развитии изящной словесности, но и радел об улучшении нравов, а свое слово обратил в средство духовного и социального раскрепощения человека. Философ, светило науки, он не чурался скромных, будничных, "мелких" дел, если они были направлены на благо и процветание общества. Гражданин и патриот, отдавший немало сил освобождению родной страны от колониального гнета, преданно служивший этому делу как на общественном, так и на дипломатическом поприще, он с неменьшим блеском выступал и на ниве законодательства, помогая делать первые шаги новорожденной республике, у колыбели которой он стоял. Государственный муж и искусный политик, он стал автором первого классического произведения американской литературы.
Деятельная натура Франклина, с редкой щедростью наделенная от природы умом и талантом, активно искала точек приложения кипевшим в его душе силам, находя достойное выражение в различных сферах, кажущихся подчас совершенно несовместимыми. В самой разносторонности его дарований, неуклонно требовавших реализации в практическом действии, выразился тип личности, рожденный новой исторической эпохой. Он возник на стыке требований, выдвигаемых стихийными социальными процессами, и представлений, выработанных философией Просвещения. Восприняв духовные заветы Возрождения, поставившего человека в центр мироздания, просветительское учение сделало его мерой всех вещей не только в общегуманистическом плане, но и применительно к жизни общества. В основе просветительской концепции личности лежит утверждение о естественном равенстве всех людей, которое отвергает социально-сословную иерархию, мешавшую развитию творческого потенциала человека и тормозившую динамику социальных процессов. В соответствии с этой концепцией, достоинство и ценность каждого определялись не знатностью, высоким положением в общественной табели о рангах или богатством, то есть закрепленными в социальных институтах достижениями предков, а исключительно ее собственными заслугами, добытыми своим трудом и талантом. На смену наследственным привилегиям приходит самоценность личности, реализующей себя в общественно значимом деянии, успехи которой отмечают не только ее продвижение вверх и вперед, но служат одновременно вехами общественного прогресса.
Жизнь и разносторонняя деятельность Франклина с неопровержимой наглядностью показывала неограниченность возможностей личности, обретающей свободу самораскрытия с устранением сословных преград и уничтожением сословных предрассудков. Родился Франклин (Benjamin Franklin, 1706—1790) в семье ремесленника в Бостоне, куда его отец, перешедший в протестантство, перебрался из Англии по совету друзей, чтобы избежать преследований на религиозной почве. Многочисленная семья, насчитывавшая семнадцать детей, жила постоянно в стесненных обстоятельствах. По достижении определенного возраста детей определяли в учение, чтобы овладев каким-то ремеслом, они смогли сами обеспечить свое существование. Бенджамин же, младший из сыновей (за ним шли еще две сестры), был отдан в грамматическую школу, поскольку отец, по ироническому замечанию Франклина, "решил посвятить (его — М. К.), как некую десятину от своих сыновей, служению церкви" (1; pp. 331—332). Побудили его к этому явные способности мальчика, необычайно рано и притом самостоятельно одолевшего грамоту и свободно читавшего все, что имелось в доме. Центральное место в семейном книжном собрании занимала, конечно, Библия. С ней соседствовали богословские сочинения, в том числе книга Коттона Мэзера "О добре" и знаменитый "Путь паломника" Джона Бэнь-яна. Но попадались в этой маленькой библиотечке и произведения вполне светского характера: "Жизнеописания" Плутарха, "Опыт о проектах" Даниэля Дефо. Несмотря на очевидные успехи, позволившие юному Франклину за неполный год одолеть программу трех классов, отец, отказавшись от первоначального замысла отправить затем сына в колледж учиться на священника, забрал его из школы. Правда, еще год он прозанимался с известным учителем, главным методом которого было поощрение, а не наказание учеников. На том обучение закончилось.
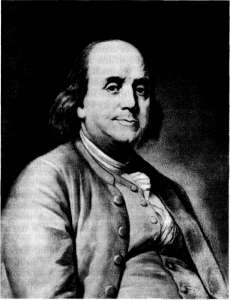
.
Десятилетним мальчиком Франклин был определен подмастерьем к отцу, занимавшемуся мыловарением и изготовлением свечей. Ремесло это совсем не нравилось ему. К тому же оно не давало никакой пищи пытливому уму будущего ученого и мыслителя. Больше всего его влекло море и книги, но на первое отец решительно не давал согласия, а что касается второго, то, познакомив Бенджамина с работой разных-ремесленников: медников, каменщиков, плотников и других — и уверившись в его полном безразличии к подобным занятиям, он решил в конце концов обучить его ремеслу типографщика. Как раз в это время в Бостоне открыл собственную типографию один из его старших сыновей, Джеймс. Туда и был отдан в учение двенадцатилетний Бенджамин, по условиям договора обязывавшийся проработать учеником до совершеннолетия (т. е. 21 года). Лишь в последний год предусматривалось перевести его в подмастерья и платить соответствующее жалование.
признавался, что написанные в ту пору стихи были "никудышные", но они грели тщеславие начинающего автора, а критические замечания, на которые был особенно щедр отец, волей-неволей заставляли задумываться о природе литературного творчества. Отец же обратил внимание Бенджамина на недостатки его слога, задумав избавиться от которых, Франклин самостоятельно приступил к его исправлению.
Показательно, что он не просто исполнял предписания приобретенной с этой целью грамматики, но разработал целую систему, свидетельствующую о достаточной зрелости мышления подростка и оригинальности его подходов к решению поставленных жизнью задач. В ней был "метод". В основе этой системы лежало подражание признанным образцам. Таким образцом стал для Франклина случайно приобретенный выпуск "Зрителя", знакомство с которым привело его в восторг. Характерна и закономерность этого подсказанного случаем выбора — он был безупречен. Знаменитый английский лексикограф Сэмюэль Джонсон писал об одном из создателей этой газеты, Аддисоне: "Кто захочет достичь английского стиля, свободного, но без грубостей, и изысканного, но без нарочитости, должен дни и ночи посвятить томам Аддисона"2— начинающий автор никак не мог воспользоваться столь ценной подсказкой. Пришлось положиться на собственный вкус, который оказался вполне надежным. Помимо стиля привлекло Франклина в "Зрителе", по-видимому, также и открытое стремление его авторов способствовать улучшению нравов и манер, что понятно в свете его дальнейшего духовного развития — впоследствии вопрос нравственного совершенствования человека и общества стал одной из ведущих тем его собственных сочинений. То, что это делалось в "Зрителе" не столько посредством надоедливого назидания, сколько игры ума, тонкой, блестящей, исполненной юмора, тоже отвечало природным склонностям Франклина. Мысли, высказанные в газете, близость которой в определенных отношениях просветительскому учению, умеренность ее позиций и непринужденность тона обеспечили ей популярность в передовых кругах английской столицы, не могли не поразить воображение подростка в пуританском Бостоне своим неслыханным свободомыслием, касалось ли это содержания публикуемых материалов или же формы изложения.
Результаты не замедлили сказаться, но Франклин не удовольствовался достигнутым. После своего очередного открытия и опять-таки без посторонней подсказки, он усложнил свою задачу, сделав объектом подражания не слог, а принципы диалектического мышления, почерпнутые из Сократа. Не раз в дальнейшем ему предстояло проделывать это, обнаруживая пробелы в какой-то области знаний или же те или иные несовершенства своей личности. И неизменно Франклин оставался верен себе — на всяком новом витке его программы самовоспитания присутствовал "метод".
Иными словами, Франклин с младых ногтей стал своим собственным учителем и наставником. Он принялся сознательно строить свою личность, "создавать сам себя", предложив молодой нации архетип национального характера, в силу своей универсальности равно пригодный для различных исторических эпох и различных по своему социальному и духовному складу регионов. Опыт "самосоздания", "самосотворения", представленный Франклином в классически чистом и завершенном варианте, не менее значим для американской литературы как национальной, чем его собственно литературное творчество. Поэтому говорить о его вкладе в ее становление и развитие, значит обращаться не только к тому, что им было написано, это значит по неизбежности и в равной мере говорить о самой его личности.
предпочитал другим, более свойственным юному возрасту увлечениям. Выкраивая для чтения краткие мгновения из обеденного перерыва, он покидал общество коллег и сверстников, уединяясь с одной лишь своей немой собеседницей, или проводил за чтением ночь напролет, когда надо было возвратить к утру полученную вечером книгу. Работа в типографии, дававшая средства к существованию, отчасти удовлетворяла его жадный интерес к знанию. Вместе с тем его типографские заработки, как малы они ни были, позволяли — при строгой экономии на еде — приобретать новые книги, среди которых были и признанные шедевры античности, и произведения современных английских авторов. Можно с определенностью сказать, что книжное собрание Франклина наверняка в какой-то момент пополнилось пособиями по изучению иностранных языков, так как известно, что он владел несколькими, самостоятельно изучив их, в том числе и латынь. Его сочинения пестрят цитатами из Вергилия, Горация, Ювенала, Овидия на языке оригинала.
"Опыт о человеческом разуме", из которого вышло все английское Просвещение, труды Коллинза, Мандеви-ля, Шефтсбери встретили живой отклик в душе любознательного подростка, дали направление развитию его мысли, его интеллектуальным и эстетическим исканиям, что нетрудно почувствовать уже в самых ранних пробах его пера. Типография, которую с полным основанием можно назвать "университетами" Франклина, открыла перед ним путь в литературу и в переносном, и в прямом смысле слова.
Среди первых литературных опытов Франклина выделяется серия очерков "Сайленс Дугуд" {Silence Dogood), опубликованная в 1722 г. (с апреля по октябрь) в газете "Нью-Инглэнд курант", издававшейся его братом Джеймсом, Ее автору было в ту пору шестнадцать лет. Неудивительно, что в ней так отчетливо ощутима ориентадия на почитаемые образцы, прежде всего — на уже упоминавшийся "Зритель". Это сказывается в выборе предмета и того угла зрения, под которым ведется его рассмотрение, а также в принципе подачи и эстетической организации материала.
Серия, состоящая из четырнадцати очерков, носит нравоописательный характер, что по всей вероятности было подсказано превалированием аналогичных статей на страницах издания Ад-дисона и Стиля, хотя и по эту сторону Атлантики у Франклина нашлось бы немало примеров для подражания. Среди вещей, вот уже на протяжении столетия определявших духовное развитие Новой Англии, наипервейшей было именно состояние нравов и вопросы морали. На эти темы произносились бесчисленные проповеди с церковных амвонов и в магистратах, писались памфлеты, трактаты и другие сочинения, в которых в зависимости от темперамента автора не умолкали сетования и жалобы или же гневные инвективы по поводу современного упадка нравов и давались наставления по их исправлению. Однако у всех них была одна общая черта, в силу которой Франклин не пожелал воспользоваться опытом соотечественников,— явно выраженная церков-но-богословская окрашенность, тогда как его устремлениям отвечал чисто светский, мирской подход. Ростки светской культуры в Новой Англии были в то время крайне слабы, что и побуждало Франклина в поисках опоры обращать взоры за океан.
Расхождение с суровым ригоризмом пуританской традиции обозначилось буквально в первых же строках первого выпуска серии, где в духе новейших веяний в области воспитания и гуманитарного знания, связанных с веком Разума, декларировалось намерение автора "несколько поразвлечь" читателей своей "краткой эпистолой"3.
— таково имя корреспондентки, подписывающей таким образом свои письма в редакцию. Согласно установившейся традиции, это значащее имя, которое содержит в самых общих чертах намек на предмет предстоящей беседы с читателем, настраивая его на определенное восприятие и давая суммарную общую характеристику "автора". Его русским эквивалентом было бы, пожалуй, нечто вроде "молчание — золото" или, если совсем на русский лад,— Молчальница Добродеева. Имя Сайленс Дугуд недвусмысленно давало понять, что разговор пойдет о том, что хорошо и что плохо в делах человеческих.
Появлением самой этой фигуры, от имени которой написана вся серия, Франклин, по-видимому, более всего обязан опять-таки "Зрителю", где авторы объединяли эссе в серии образом вымышленного персонажа, самым знаменитым из которых был сэр Роджер де Каверли. Молодого американца вдохновил не столько какой-то конкретный персонаж, сколько сама идея использования маски.
бы незаинтересованный взгляд со стороны — взгляд человека, не втянутого в перипетии реальных жизненных отношений, но и неравнодушного к порождаемым действительностью коллизиям, способного рассматривать их, взвешивая все аргументы за и против. Тем самым маска давала автору несравненно большую свободу действий, не в последнюю очередь потому, что содержание статей не могло быть впрямую увязано с конкретными ситуациями, лицами и стоящими за ними интересами. Франклин уже тогда догадывался о существовании непростой взаимосвязи между позицией и личностью автора и их оценкой читающей публикой, что он не преминул с известной долей едкости отметить в первом очерке "Сайленс Дугуд" "... ныне большинство людей не желает ни хвалить, ни хулить того, что они читают, покуда они хоть в какой-то мере не будут осведомлены, кто такой и что собой представляет автор, беден он или же богат, стар или молод, ученый человек или же человек в кожаном фартуке, и мнение о том, как это исполнено, выражает в соответствии с приобретенным знанием об обстоятельствах автора (3; р. 5).
В сочинениях того рода, которым отдавал предпочтение молодой Франклин, реальное авторство требовало безукоризненной фактической точности в обращении с материалом, но ею бы и замыкался предел, за который ему не дозволялось выйти. Поднимаясь с помощью маски над конкретностью фактов, отвлекаясь от повседневных обстоятельств, он получал выход к обобщенной нравственно-философской постановке вопроса.
текста. Создавая его, автор теперь неизбежно должен был ощущать не только и даже не столько требование законов логики и риторики, сколько эстетики и поэтики, поскольку в зависимости от характера маски и самый текст преображался, получая соответствующую ей форму. Комическая маска влекла за собой использование разнообразных приемов воплощения комического: юмора, иронии, сатиры, гротеска и т. д. Маска в фольклорном стиле предполагала широкое обращение к различным пластам устно-поэтического творчества. Вместе с тем, независимо от характера маски любой текст, где она используется, получает дополнительное измерение: приобретает характер иносказания. Наконец самим своим присутствием в тексте маска коренным образом изменяет его, раскрепощает, вводя в него элементы игры, розыгрыша, ту увлекательную стихию свободного художества, возможности и воздействие которых поистине безграничны. В какой мере тот или иной автор, бравшийся за эту форму, был способен реализовать заложенный в ней потенциал, зависело от многих обстоятельств. Что касается Франклина, открытый им для себя принцип маски оказался столь созвучен его творческому складу, что он прибегал к нему на протяжении всей жизни, неизменно совершенствуя его для достижения желаемого художественного и идеологического эффекта, оттачивая свое мастерство.
крылось желание спрятаться за образ, в котором не легко было бы угадать подлинное лицо автора, или увлекла трудная художественная задача — создать образ, по своему жизненному опыту и характеру очень далекий от него самого. Так или иначе, он наделяет Сайленс Дугуд довольно подробной биографией. Она включает ряд драматических эпизодов, начиная с гибели отца в морской пучине, смытого в тот день, когда она появилась на свет, с палубы корабля, на котором ее родители направлялись из Лондона в Новую Англию, и кончая ее собственным вдовством. Смысл этих деталей в том, чтобы создать образ человека, познавшего жизненные невзгоды и потому способного судить о жизни не легковесно, а взвешенно. Твердо усвоившая преподанные ей в свое время нравственные уроки и умудренная опытом, [Сайленс Дугуд предстает как фигура во всех отношениях положительная. Моральный авторитет, которым наделяет ее автор, естественно, переносится и на высказываемые ею суждения, практически совпадающие со взглядами самого Франклина.
Так, когда она называет книги "лучшим обществом", или, вспоминая годы отрочества в доме священника, сообщает, что он разрешил ей пользоваться своей библиотекой, чтобы "правильно развивалось соображение и в душе могли сформироваться великие и благородные идеи" (3j p. 6), в ее словах непосредственно выражены мысли ФранклинаДТо же можно сказать о вложенной в ее уста автохарактеристике: "Я враг порока и друг добродетели. Я широко занимаюсь благотворительностью и охотно прощаю личные обиды. Сердечно люблю священников и всех добрых людей и я смертельный враг деспотического правления и неограниченной власти. Я естественно очень ревностно отношусь к правам и свободам моей страны и при малейших признаках ущемления этих бесценных привилегий у меня способна бурно закипать кровь". Позицию автора передает и решение Сайленс "делать в будущем все, что в моих пределах, для служения моим соотечественникам" (3; pp. 8, 9).
Обращают на себя внимание заключительные строки пассажа о "правах и свободах моей страны", где вопросы морали отступают на задний план, замещаясь проблемами политическими, свидетельствуя о направленности духовных устремлений юного автора. Стоит напомнить, что до Американской революции оставалось еще более полувека, и обстановка в колониях была относительно спокойной, так что эти слова не могли выплеснуться на страницу газеты как отклик на завладевшие умами широких слоев населения идеи и настроения. Как ни смутно, должно быть, представлял себе в это время Франклин эти "права и свободы", равно как и то, в чем будет состоять "служение соотечественникам", несомненно, что уже в ранние годы он не ограничивался одними лишь проблемами морали и что уже тогда начала складываться концепция "полезного гражданина", занявшая центральное место в социальной философии Франклина.
что именно от того, насколько удастся автору перевоплотиться в заданный характер, т. е. дистанцироваться от себя, зависит успешность решения поставленной им задачи. Создать биографию персонажа-маски Франклину оказалось несравненно легче, чем характер, отчего он и не сумел в полной мере воспользоваться заложенными в ней возможностями. Впрочем едва ли следовало ожидать, что с первых же своих шагов в литературе он продемонстрирует безупречное владение средствами художественной выразительности.
Между тем Франклин, видимо, понимал, что сближение автора и маски не может быть абсолютным, что нельзя передоверить двойнику-маске вообще любую важную для него мысль и заставить его о ней рассуждать, иначе доверие к маске будет подорвано, и она потеряет всякий смысл. В то же время желание высказать свое мнение по тому или иному вопросу оказывалось чересчур велико, чтобы он мог хранить молчание. Ведь и затевалась вся эта серия в первую очередь затем, чтобы довести свои представления до всеобщего сведения. Для преодоления трудностей подобного рода Франклин пускался на хитрость, перепечатывая обширные пассажи из других изданий, из некоего "Лондонского журнала", к примеру,— чаще всего это был "Зритель". В очередном послании Сайленс Дугуд сообщала, что ей удалось прочесть нечто столь интересное, что она спешит познакомить с этим читателей газеты, предпочитая увидеть напечатанным не свое сочинение, а чужое.
и свободы слова в их соотношении со свободой народа, властью и правлением, тиранией и насилием. Иными словами, речь идет об осноьополагающих категориях политической теории Просвещения. Позиция анонимного лондонского автора столь близка Франклину, что он охотно подписывается под его словами именем своего двойника-маски, не замечая, однако, что исходно заданный характер не выдерживает такой нагрузки, его цельность разрушается. Цель — выражение своего взгляда — достигается лишь ценой фактической нейтрализации, выведения из строя того литературного приема, который был избран в качестве главного средства, раскрывающего воззрения автора.
Гораздо увереннее чувствует себя Франклин в очерках, сосредоточенных на моральной проблематике. Критикуя нравы, царящие в обществе, к чему, по признанию Сайленс Дугуд, у нее "отменные способности" (3; р. 8), он получает возможность широко обращаться к живым примерам, реальным жизненным ситуациям, не ограничиваясь одними лишь абстрактно-логическими рассуждениями, которыми он был связан в изложении политических вопросов. Среди пороков, на которые он обрушивается,— безделие и пьянство, аристократические замашки и женские причуды.
пуританским окружением в осуждении женского тщеславия, расточительности, увлечения модами, однако даже и эти привычные, веками осмеивавшиеся вещи Франклин в конечном счете поворачивает так, чтобы смягчить тяжесть обвинений.
Зачином для рассуждений на эту тему (очерк № 5) служит письмо, адресованное Сайленс Дугуд неким Эфраимом Сенсориу-сом, который призывает ее оставить в покое сильный пол и заняться "женскими пороками", поминая среди них "женское безделье, невежество и глупость" и заключая свое обращение утверждением, что "женщины — первейшая причина громадного числа гнусностей мужчин" (3; р. 14). Таким образом для развития его сюжета, заключавшегося опять-таки в изложении собственного понимания "женского вопроса", Франклину потребовалось введение второй маски — маски оппонента, тоже наделенного значащим именем: "доброжелатель" Сенсориус — это придира, строгий блюститель нравов. Количество масок этим не ограничивается, пополняясь по мере развития серии все новыми участниками спора, а также персонажами, в том или ином качестве фигурирующими в рассуждениях Сайленс Дугуд, все под значащими именами.
Выражающая точку зрения Франклина Сайленс Дугуд без труда разбивает обвинения своего противника, начиная с того, что упреки в безделии — высшая несправедливость: ведь известно, что "женскую работу никогда не переделаешь", потому что на женщин "вечно навалено больше работы, чем они способны сделать" (3; р. 15). А если и случается видеть особ, проводящих время в праздности, вина, как она прямо заявляет, целиком лежит на представителях сильного пола, по собственному желанию и глупости навязывающих женщинам подобный образ жизни. Критика Франклином принятых обществом норм приобретает социальную окраску — в ней легко улавливается намек на те круги, что претендуют в своем поведении и жизненном укладе на аристократизм, уже тогда, с точки зрения представителя третьего сословия, Франклина, безнравственный.
— кто, как не мужчины, лишает "женщин благ образования" (2; р. 15). Сочувственно восприняв идеи и идеалы Просвещения, Франклин не упускает случая воздать хвалу Разуму и знаниям, которые единственно могут служить опорой человеку на жизненном пути, однако, не полагаясь, видимо, на свои силы, он вновь оставляет основную аргументацию на долю другого, "остроумного" автора, приводя обширную цитату из его текста, надеясь, быть может, и прикрыться его авторитетом в случае возможных нападок. А заключает спор утверждение Сайленс Дугуд, что "невозможно, бичуя пороки (найти такой — М. К.), в котором мужчины не были бы столь же повинны, как и женщины" (3; р. 16). Заслуживает внимания тот факт, что уже в этом раннем сочинении Франклин наряду со словесной защитой предлагает практические меры, призванные облегчить положение вдов (в данном случае — создать нечто вроде кассы взаимопомощи). Важны, впрочем, не сами конкретные меры, а то единство слова и дела, которое и впредь будет неизменно отличать деятельность Франклина в любой области.
"женским вопросом" проблеме просвещения посвящен целиком четвертый очерк серии, один из самых интересных и с точки зрения изложенных в нем взглядов, и по своей форме. Авторитет знания, как и для всех деятелей Просвещения, был для Франклина очень высок. Современное состояние образования, однако, явно не удовлетворяло его, и он с самого начала настраивает читателей на весьма критическое отношение к столь почитаемым ими "рассадникам учености".
И в этом очерке Франклин не ограничивается одной маской, вводя вспомогательную фигуру Клерикуса. Побеседовав с ним относительно того, какое образование дать сыну, которого тот советует отдать в "знаменитый Питомник Учености" (3; р. 10), Сайленс удаляется "на свое обычное место отдохновения, под Большую Яблоню" (незавуалированная отсылка к Ньютону, который был таким же кумиром Франклина, как и Эдвардса. да и всего раннего английского Просвещения). Здесь она видит знаменательный сон: она путешествует по долам и весям Новой Англии, где повсюду "гремит слава Храма Учености". Чуть ли не каждый встреченный ею в пути крестьянин намеревается отправить туда хотя бы одного из своих сыновей, сообразуясь, однако, не столько со способностями их, сколько с содержанием своего кошелька. Неудивительно, что большинство тех, кто направляется туда, "немногим отличалось от ослов и тупиц". Ориентация не на талант и знания, а только на богатство, не позволившая и самому Франклину вкусить заветных плодов просвещения, вызывает его резкое осуждение, внося в очерк откровенно сатирические и даже саркастические интонации.
Вход в Храм охраняется двумя привратниками, Богатством и Бедностью, и все, кто не заручился благосклонностью первого, вынуждены уйти ни с чем. Положение в Храме оказывается еще хуже: посредине, на великолепном троне восседает Ученость "в ужасном состоянии", со всех сторон окруженная "бесчисленными томами на всех языках" (3; р. 11). Ее свиту составляют разряженный и улыбающийся Английский язык и "Древние фигуры с лицом под вуалью", которую навязали им присутствующие тут же, у подножия трона "мадам Праздность и ее прислужница Невежество". Фигуры под вуалью представляют древние языки, и те, кто способен отличить их от английского, едко замечает Франклин, "изображают близкое с ними знакомство". Труд, который необходим, чтобы подняться к трону Учености, им неприятен и тяжек, они предпочитают проводить время в обществе Праздности и Невежества, а потом за ничтожную плату — "пинту молока или кусок пирога с коринкой" (3; р. 12) — поднимаются на верхние ступени с помощью тех, что одолели подъем усердным учением. Завершив таким образом весь курс, они покидают Храм, после чего, по наблюдениям Сайленс, одни "принимались за торговлю, другие — за путешествия, одни — за одно, другие — за другое, а третьи не принимались ни за что, и многие из них с тех пор, в силу отсутствия наследства, жили бедно, как церковные крысы, поскольку копать не умели, просить подаяния стыдились, а жить своим умом им было невозможно" (3; pp. 12—13). Большинство же, язвит Сайленс, направляется к "Храму Теологии", где она замечает скрывшуюся за занавесом фигуру Пекунии (Деньжаты), которая и объясняет, отчего столь популярна у юношества "большая торная тропа", ведущая к этому храму. Там же Сайленс обнаруживает еще одну примечательную фигуру. Это Плагиус (Плагиат), предающийся своим "тщеславным и жульническим махинациям" (3; р. 13) — на этот раз он застигнут за перепиской параграфов из сочинений Тиллотсона, которыми намеревается украсить свои творения.
В пассаже содержится, таким образом, прямая и косвенная критика духовенства: они избирают свой жизненный путь, руководствуясь сугубо меркантильными соображениями, а отнюдь не потому, что призваны Господом на высокое служение. Знаменательно упоминание Тиллотсона, английского священника либерального направления, чьи взгляды в определенной мере перекликались с учением ранних английских просветителей. Франклин противопоставляет его толпе идущих в священники ради личного обогащения еще и потому, что последние неспособны уразуметь сути его идей, видя в заимствованиях у него лишь способ украсить свои сочинения — намек на то, что они должны быть достаточно жалкими, чтобы нуждаться в таком украшательстве. В серии встречаются и другие выпады против духовенства, однако, как и в данном случае, Франклин не вступает в полемику по существу. Под прицелом оказываются пока аспекты нравственно-социальные и этические, имеющие не абстрактное, а вполне конкретное наполнение. Особого внимания заслуживает осуждение Франклином меркантилизма будущих, а косвенно — и действующих служителей церкви. В девятом выпуске он сочувственно цитирует инвективы автора из "Лондонского журнала" против духа наживы, чтобы "лучше убедить читателей, что общественное разорение может быть легко осуществлено лицемерами, изображающими преданность религии" (3; р. 28).
"Правила для "Нью-Инглэнд курант" (январь 1723 г.), написанные от лица "сердечных друзей и доброжелателей", укрывшихся по инициалами "А, Б, В и др.". Давая наставления относительно того, чего не следует делать: выставлять в неблагоприятном свете, к примеру, власти предержащие и цитировать "нечестивых и скандальных авторов", равно как и Священное писание, прибегать к проповедническому тону и нападкам на "достойное общество джентльменов" (3; pp. 47, 46) — дабы не навлечь на газету гнева влиятельных особ, "авторы" отводят первое место отношению к религии и духовенству. Излагая их соображения, Франклин недвусмысленно адресуется к реальной ситуации, сообщая, что газета уже завоевала "дурное имя", поскольку, по мнению "благочестивых людей, каковых немало в этом краю", пишется она "с дурными намерениями, с тем, чтобы насмешничать и издеваться над религией и теми, кто ее серьезно, добросовестно исповедует" (3; р. 44). "Правила" выдержаны в строгой тональности, соответствующей важности и характеру предмета, о котором идет речь. Франклин не допускает никаких вольностей, шутливых выпадов, игры, простого балагурства, но соединением этой ритуальной серьезности с доводами, разъясняющими, что обходить молчанием прегрешения священников на пользу самой же газете, добивается сатирического эффекта. "Мы думаем, что Новая Англия может похвастать почти беспримерной удачей (какая выпала ей — М. К.) в ее СВЯЩЕННИКАХ; если взять их вместе, едва ли сыщется под небесами более Искреннее, Ученое, Благочестивое и Трудолюбивое собрание людей,— убеждают "доброжелатели".— Но хотя они Лучшие из людей, они все же в лучшем случае только люди и, следовательно, подвластны, подобно другим людям, слабостям и страстям". Вывод напрашивается сам собой — и потому нуждаются в снисхождении. Однако то, что следует за этим выводом, зачеркивает столь, казалось бы, продуманно сложенную хвалу: "К тому же, оскорбляя духовенство, вы не сообразуетесь со своим собственным интересом, так как можете быть уверены, они максимально используют свое влияние, чтобы запретить вашу газету" (курсив мой.— М. К.; 3; р. 45). Тс, кто готов в любую минуту воспользоваться силой, пусть даже это всего лишь сила влияния, едва ли может претендовать на принадлежность к числу "лучших людей". Показать нравственную несостоятельность этих претензий и составляло подлинную цель Франклина в данном сочинении.
Задиристый молодой автор смог вскоре убедиться в том, сколь опасна затеянная им игра. Всего через несколько дней он обращается к судье Сьюоллу в связи с санкциями против "Нью-Инг-лэнд курант", принятыми под давлением священников. Рассмотрение частного случая вырастает под пером Франклина в постановку общей проблемы прав и свобод. Выступая в защиту брата, он не просто указывает на незаконность предъявляемых ему обвинений, поскольку предполагаемые нарушения со стороны Джеймса предшествовали принятию соответствующего закона, он видит в них угрозу "английским Свободам". Не довольствуясь этим, он говорит, что от спровоцированных духовными пастырями действий может пострадать и "наша религия", так как инициаторы этого дела "создали для себя на будущее розгу" — пока всех их спасает то, что у них хороший король, но если "за наши грехи" Бог пожелает "наказать их, наградив плохим", священники могут не увидеть ни одной из своих проповедей напечатанной. Наконец, он напоминает Сэмюэлю Сьюоллу, участнику судилища над "сэйлемскими ведьмами", что ему прежде случалось "впасть в ошибку, которую вы впоследствии публично и официально (и не сомневаюсь, искренне) признали" (3; р. 48), и призывает проявить осторожность в современных обстоятельствах.
"Сайленс Дугуд" Франклин еще не заходит особенно далеко, ограничиваясь критикой частных моментов поведения, которые не похвальны в любом, но в священнике тем более не терпимы. Это относится и к обвинению духовенства в корыстолюбии. "Неудержимая страсть к неумеренной наживе,— говорится в одобрительно цитируемой Сайленс статье, которая существенна для уточнения позиции Франклина,— сделала людей повсеместно чрезмерно жестокосердыми. Они повсюду пожирали друг друга. И тем не менее вдохновители и их приспешники, бывшие действенными орудиями всего этого возмутительного безумства и злодеяния, выставлялись как чудные, набожные люди в то время, как они открыто не повиновались Всемогущему Богу и грабили людей; они основали Фонд подписки на благотворительные цели; то есть, они безжалостно превратили весь народ в нищих и своей благотворительностью поддерживали кучку нуждающихся и никчемных ФАВОРИТОВ" (3; р. 28).
— нажива, как таковая, отталкивала его. Дальнейший жизненный путь Франклина подтвердил, что если он и ценил материальный достаток, то в первую очередь потому, что видел в нем средство обеспечения личной свободы. Вместе с тем всесилие богатства, которого он не мог не заметить, наблюдая жизнь окружающего общества, как показывает, в частности, данный очерк, отнюдь не вызывало у него восторга. Особенно непереносимо было для Франклина, что именно оно открывало — или закрывало (в зависимости от того, с какой стороны смотреть) — доступ к образованию. Посвятив целый очерк этой проблеме, Франклин завершает его на грустно-иронической ноте. Выпускники "Храма Учености" — Гарварда — остаются "такими же полными тупицами, как всегда, только еще более преисполненными гордости и самомнения", выучившись лишь "красиво держаться, да вежливо входить в комнату", чем легко овладеть, с насмешкой замечает Франклин, "в школе танцев" (3; р. 13). Очерк носит характер назидания, удачно согласующегося с формой притчи, в которой он выдержан, правда, с добавлением элементов аллегории (введение условных фигур, олицетворяющих отвлеченные понятия, а также различные стороны человеческого опыта и деятельности — Ученость, Праздность, Древние языки, Богатство и т. д.).
Не обошел Франклин в этой серии своим вниманием и литературы, посвятив ей седьмой очерк. Его открывает обсуждение вопроса, который к концу столетия, после завоевания собственной государственности, а особенно в последующую эпоху, приобретает необычайную, порой болезненную остроту: способна ли Америка создавать подлинную поэзию. Смысл этого вопроса, несомненно, гораздо шире: речь шла о духовном потенциале молодой нации, о том, может ли она порождать подлинные художественные ценности. Франклин не берется решить его, но ему выпала честь едва ли не первым его поставить. Свою задачу он видит иначе, хотя приведя жалобу "многих остроумных чужестранцев" на то, что "в Новой Англии нечего ждать хорошей поэзии", Франклин решительно отвергает справедливость подобного суждения: "причина не в том, что наши соотечественники совершенно лишены поэтического гения, не в том также, однако ж, что мы не обладаем теми благами образования, какие есть у других стран, но чисто потому, что мы не позволяем себе той заслуженной хвалы и поощрения, когда средь нас создается нечто необыкновенное в этом роде", и обещает при случае "открыть миру некоторые из их красот" (3; р. 19).
Главная цель Франклина — высмеять притязания на поэтичность местных сочинителей, чьи творения отнюдь не блистают подобными красотами. В качестве примера он избирает "Элегию на горько оплакиваемую смерть миссис Мехитебслл Кайтел", сочиненную неким доктором X (обстоятельство, сатирически обыгранное в очерке). Франклину не откажешь ни в наблюдательности: "наша почва редко порождает поэзию другого сорта" (3; р. 21), ни в язвительности. Расписывая исключительные достоинства элегии, он буквально не оставляет от нее камня на камне, подмечая не только индивидуальные промахи, но и общие изъяны этой своеобразной массовой продукции пуританской культуры, к которой он едва ли имел большую склонность. Во всяком случае, без обиняков говорится, что "подавляющая их (элегий — М. К.) часть удручающе скучна и смехотворна" (3; р. 21). "Ее язык столь нежен и легок, выражение столь трогательно и исполнено патетики, но более всего ее стих и размер столь очаровательны и естественны, что ее почти нельзя ни с чем сравнить" (3; pp. 19— 20). Особых "похвал" удостаивается автор элегии за непочтение к старым правилам. Ее свободный, не скованный скучными требованиями, о которых пекутся лишь надоедливые критики, полет возносит автора так высоко, что ему удается создать неизвестный вид поэзии, которой не подходит название "ни эпической, сапфической, лирической или пиндаровой, ни какое иное наименование, доселе изобретенное", и с простодушием, исполненным иронии, Сайленс предлагает назвать ее по имени усопшей "кайтелической".
"нашим поэтам", "честным малым, действующим из лучших побуждений и делающим все, что в их силах", нуждающимся, однако, в указаниях, которые "направляли бы их воображение". В следующем затем руководстве Франклин в остроумной форме перечисляет как раз те присущие ново-английским элегиям черты, которые и делают их "удручающе скучными". Этот шуточный список составлен, как это часто будет у Франклина и в дальнейшем, с нарочитой серьезностью и использованием легкой гиперболизации, которые в сочетании создают комическое заострение. Так, в отношении "предмета элегии" дается совет выбрать кого-то из "недавно покинувших сию жизнь" соседей, лучше всего "ушедших внезапно, будучи Убитыми, Усопшими или Замерзшими до смерти". Перечисляя достоинства усопших, не надо чувствовать себя связанным тем, что было в действительности,— можно "позаимствовать кое-какие, чтобы составилось достаточное количество". Особый эффект придает рекомендациям сходство с кулинарными рецептами: "Добавьте к этому его последние слова, выражения на смертном одре и т. д., ... перемешайте вместе и хорошенько их процедите. Потом сдобрите щепотью-другой меланхолических выражений, вроде "Ужасный, смертельный, жестокая, холодная смерть, злосчастная судьба". Очерк ненароком подхватывает тему образования, развитую в одном из предыдущих выпусков, так как поместить все это нужно в "пустую голову какого-нибудь юного гарвардца" — лишь за неимением такового рекомендуется воспользоваться собственной, дать "выстояться" этой смеси недели две и, "заготовив в достаточном количестве двойные рифмы" (далее следуют примеры простейших английских рифм, затертых от долгого употребления, аналогичных русским "кровь — любовь", "розы — морозы", и неуклюжих глагольных сочетаний с местоимениями с рифмовкой последних типа "тебя — меня"), "выкатать все это на бумагу" (3; pp. 21, 22).
В литературном отношении всего свободнее чувствует себя Франклин в стихии юмора, который навсегда останется наиболее яркой отличительной чертой его творчества. Именно он позволяет начинающему автору развернуть широкий арсенал средств комического остранения: от незлобивой шутки и непринужденной остроумной игры до бурлеска. Ему обязан Франклин и самыми удачными своими страницами. В отдельных случаях благодаря юмористическому обыгрыванию ситуации ему удается создать вполне законченный характер. Примером может служить образ Маргарет Афтеркаст (очерк № 11). Это вновь персонаж-маска, призванный воплотить определенный тип, с помощью которого автор собирается преподнести читателю нравственный урок. Маргарет — разборчивая невеста, отвергшая в свое время толпы осаждавших ее женихов, а теперь никакими ухищрениями — "чтобы лучше восстановить свою увядшую красоту", одной только косметики "извела больше, чем на пятьдесят фунтов" — неспособная приманить новых. У Сайленс она ищет не только утешения, но и помощи тем, кто, вероятно, будет до старости "наказан своей девственностью". Сетуя на бывших поклонников, Маргарет надеется вызвать сочувствие — автор же добивается эффекта прямо противоположного тому, на который рассчитывает его незадачливая героиня. "Некоторые из покорных слуг Вашей просительницы, которые, будучи отвергнуты ею, были — по всей видимости — в умирающем состоянии, с тех пор оправились и по нескольку лет женаты, к великому удивлению и горю Вашей просительницы, которая рассталась с ними на том исключительно условии, что они либо умрут, либо будут бегать, обезумев от тоски по ней, что некоторые из них обещали честно исполнить" (3; р. 34). В подобных эпизодах (как правило, это простые житейские ситуации) юмор Франклина разворачивается с полным блеском, так, что отдельные пассажи были бы достойны украсить страницы Твена.
Появление юноши в чужом городе, где у него не было ни родственников, ни друзей, без денег, усталого после нелегкого пути, прекрасно описано в "Автобиографии" Франклина. Описанию этому суждено было стать частью национального мифа о человеке, который "сотворил сам себя". Большое впечатление произвело оно и на одного из первых русских читателей книги, Н. М. Карамзина. Но до того, как Франклин приступил к ее созданию, оставалось без малого четыре десятилетия, и, надо полагать, будущего ее автора, бредущего по улицам с караваем под мышкой в поисках подходящего жилья и работы, обуревали мысли, направленные на совсем иные предметы. Устроившись вскоре наборщиком в одну из филадельфийских типографий, Франклин не был вполне удовлетворен своим новым положением, так как по-прежнему оставался в подневольной зависимости, теперь немало его тяготившей. Тогда и зарождается у него желание обзавестись собственной типографией, в которой он видел не только источник средств к существованию. Она давала бы ему свободу действий, в которой он как литератор и мыслитель ощущал все большую потребность. С осуществлением этого плана связана и поездка Франклина в Англию, куда он отправился в 1724 г. Столица метрополии влекла его не только возможностью разрешить свои житейские трудности. Пребывание в Лондоне расширило духовные горизонты Франклина и оказало сильное влияние на формирование его мировосприятия. Очутившись в центре культурной жизни всего англоязычного мира (как ни скромны его масштабы по сравнению с нынешними), он сближается с передовыми кругами английской столицы, в том числе лично знакомится с некоторыми из ведущих представителей английского Просвещения. Одно из его заветных желаний осталось, однако, неосуществленным — ему так и не удалось познакомиться с Ньютоном, гению которого он поклонялся с юных лет.
Главным итогом первого, весьма недолгого лондонского периода явилось написание и издание Франклином "Рассуждения о свободе и необходимости, удовольствии и страдании" (A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and Pain, 1725). Это сравнительно небольшое сочинение обобщенно-философского характера обозначило новую ступень в его духовном становлении, отразив переход на позиции деизма. Бегство из пуританского Бостона в Филадельфию, отличавшуюся заметной терпимостью в отношении разного рода инакомыслия, где Франклин обосновался на десятилетия, получило, таким образом, культурно-историческое наполнение, ознаменовав готовящийся отрыв от пуританской культуры, выражением которого стало "Рассуждение". Вопросы, к которым он обратился в этом сочинении, уже немалое время дебатировались в Англии, вовлекая в полемику и колонии. Заслуживает внимания и то обстоятельство, что Франклин (и он был далеко не единственным) был "обращен в деизм благодаря чтению антидеистской аргументации,— пишет видный американский исследователь Генри Мэй.— Отвечая деистам в их же категориях, христиане взялись доказать, что их религия в каждой своей мелочи рациональна и нравственна. Это была тактическая ошибка и колоссальный провал религиозного и исторического воображения'"4.
"Рассуждение о свободе и необходимости..." разительно отличается от газетных публикаций Франклина, который не нуждается здесь в маске-посреднике. Соответственно нет в "Рассуждении" и тени шутливого балагурства, озорства, насмешливого остроумия или комического преувеличения, словом, той стихии игры, которая так увлекала его при создании заметок для "Нью-Инглэнд курант". Франклин говорит здесь открыто от собственного лица, не прибегая для выражения своих взглядов к той или иной форме иносказания. "Рассуждение" от начала и до конца выдержано в системе научного дискурса. В нем господствуют законы строгой логики и причинно-следственные связи.
В соответствии с положениями деизма Франклин признает существование Бога, "Творца Вселенной", "первого Движителя", воплощения "всего добра", "всей мудрости" и всемогущества (3; pp. 57—58). Как признание "первотолчка" приводит в движение универсум, так признание всемогущества и всеблагости Господа позволяет Франклину развернуть свою философскую систему, отдельные положения которой звучат удивительно современно. Предлагаемые в "Рассуждении" определения Бога исключают самое возможность зла во Вселенной, поскольку в таком случае это противоречило бы постоянным атрибутам Бога, вынуждая отказаться от представления о его всесилии, верховной власти и всеблагой воле. В силу этого и человек, творение божие, должен, по логике Франклина, неизбежно совершать только благие дела, иначе он, смертный, обладал бы большим могуществом, чем Бог, будучи способен делать нечто не согласующееся с божьей волей. Характерно, что Франклин не определяет природы человека, не утверждает, что он изначально добр,— доктрина первородного греха, составляющая концептуальную основу пуританства, была не только хорошо известна ему, но и достаточно глубоко вошла в его сознание,— однако и не объявляет его в духе пуританской доктрины вместилищем порока.
[Согласно предложенной логике рассматривается и вопрос о свободе воли человека. Сама свобода определяется двояко: она предстает как "отсутствие противления" и сравнивается с явлениями природного мира. Такая "свобода имеет ту же природу, что и падение тяжелого предмета наземь", предмет этот "свободен" упасть, но не имеет способности, или свободы, "остаться в подвешенном состоянии". Иное дело свобода*, при которой человек подразумевается в качестве "свободного деятеля'*^ ил и агента; 3; pp. 60, 61).
— это громадная, прекрасная, великолепно отлаженная машина, механизм, подобный часовому^} Это сравнение, довольно часто встречающееся у философов и теологов рубежа XVII—XVIII вв. и вошедшее в широкий обиход благодаря гению Ньютона, у человека 20-го столетия способно вызвать лишь негативные коннотации: оно заведомо влечет за собой понятия безжизненности, мертвенности, всепроникающего расчета, холодного и бездушного, которые исключают самопроизвольное, т. е. свободное действие тех сил, что заключены в эту механическую скорлупу. Чтобы понять, что виделось человеку начала XVIII в., необходимо, отрешившись от современных ассоциаций, попытаться посмотреть на мир его глазамиДДля него сравнение с гигантским механизмом открывало непостижимое человеческому разуму совершенство окружающего мира. Мира, в котором при всем его бесконечном многообразии, царит абсолютный порядок и высший смысл, удерживающие каждое мгновение и всю вечность солнце, планеты и открывающиеся в небесах миры в стройном движении в пространстве и циклах временное восторгом первооткрывателя смотрел тогда человек на чудо мироздания, преисполняясь благоговения перед его красотой. Этот восторг равно разделяли и Джонатан Эдвардс, который также писал о совершенном божественном механизме Вселенной, и Бенджамин Франклин, стоявшие на противоположных философских позициях. В "Рассуждении" он прорывается лирическими всплесками, окрашивающими его страницы в поэтические тона: "Как всякая вещь точна и правильна в естественном мире! Как разумно задумана в каждой его части! Мы не можем найти здесь ни малейшего изъяна! Те, кто изучал всего-навсего создания животного и растительного мира, показывают, что не может быть ничего гармоничнее и прекраснее! Все небесные тела, звезды и планеты управляются с высшей мудростью!" (3; р. 61).
— свободного деятеля — в этот совершенный мир значило для Франклина мгновенно подвергнуть чудо риску уничтожения. Бытие мира держится на тончайшем взаимодействии всего со всем, от самого бесконечно малого до неохватно большого. Но человеку с его слабым разумом доступна лишь ничтожная доля универсума, от него сокрыта всепроникающая соотнесенность частей и целого. Только ощупью, вслепую может он бродить в этом мире, имея "всего один шанс из десяти тысяч угадать правильное действие". Обладай он подлинной свободой воли, он, по мнению Франклина, только бы "расстраивал эту схему", так как "каждое неверное действие — это изъян или порок в строении целого", а на другие он в силу названных обстоятельств не способен.
Признание свободы воли, с точки зрения Франклина, ведет неизбежно к вселенской катастрофе. Но ее логическое допущение опровергается практикой — мир по-прежнему существует, он не уничтожен, не пал жертвой человеческого несовершенства и неведения, а значит, человек не обладает той свободой воли, заключает Франклин, которая приписывается ему многими философами, ибо предположить обратное — значит считать, что искусный механик, изготовив хитрый механизм или часы и приведя его замысловатые колесики и двигатели в такую зависимость одно от другого, чтобы все могло двигаться в точнейшем порядке и со всей правильностью, взял бы тем не менее и поместил в него несколько других колесиков, наделенных независимым самодвижением, но ничего не ведающих об общих потребностях часов, ход которых они неизбежно нарушали бы.
Решение этой трудности представляется Франклину достаточно легким: их надо лишить "способности к самодвижению" и поставить "в зависимость от нормальных частей" механизма. Для свободы воли человека в этом мире не остается места. Тогда исключается и существование добродетелей и недостатков, а вследствие этого — и предпочтение Богом одних (достойных) другим (недостойным). Тем самым Франклин фактически выступал против доктрины спасения избранных исключительно божией милостью. Исполняя не свою волю, но лишь волю Творца, люди в равной мере заслуживают уважения в его глазах. Речь вообще не идет о спасении, так как в заключительной части "Рассуждения" Франклин развертывает аргументацию, отвергающую идею бессмертия души. Последнюю он определяет как "простую способность или дар размышления над идеями, когда они у нее есть, и их сопоставление; отсюда возникает разум". Память выступает как сохранение четкого отпечатка идеи в мозгу, а забвение означает его разрушение вследствие той или иной причины, так что "душа не может обнаружить ее следов и опознать ее". Когда утрачивается "идея любой вещи, мы больше не можем думать об этой вещи, или перестаем думать о ней". Нечто аналогичное, рассуждает Франклин, происходит, когда человек погружается в сон — наступает прекращение мысли, составляющей действие души. И хотя она "не уничтожается, но существует все это время", она не действует. Несмотря на нематериальность души, которая традиционно приводится в обоснование ее бессмертия и которая, по мнению Франклина, исключает лишь возможность ее "разделения или разрушения посредством любой материальной вещи", она не может существовать вечно, поскольку "со смертью и разрушением тела, в силу того, что тогда содержащиеся в мозгу идеи (которые одни суть объекты деятельности души) с неизбежностью подобным же образом разрушаются, душа, хотя сама и неспособная разрушиться, должна по необходимости перестать думать или действовать, за неимением того, над чем думать или на что действовать". Она возвращается таким образом в свое первичное, "бессознательное состояние", при котором прекращение "мысли мало отличается от прекращения бытия". Франклин не исключает, что сохранившаяся нематериальная субстанция — "способность размышлять над идеями" — может быть "соединена с новым телом", однако это не меняет сути дела, поскольку "личность будет утрачена, это будет не то же самое "я", а новое существо" (3; pp. 69, 68, 69).
В сущности Франклин развивает в своем "Рассуждении" почерпнутые им у Локка идеи относительно человеческого разума, ядро которых составляет отрицание врожденных идей. Его мысль приобретает отчетливо выраженную материалистическую окраску, и хотя он допускает неистребимость "способности размышлять над идеями", в восприятии которой Франклин, подобно Локку, сохраняет связь с философскими представлениями более ранней эпохи, мысля ее как нечто отдельное, в действительности самый факт ее существования, с его точки зрения, применительно к отдельному человеку, к одной конкретной жизни не может обеспечить его личного бессмертия. Это означало фактический разрыв со складывавшимися в колониях на протяжении столетия традициями мышления, до тех пор облеченного в форму религиозной мысли. Характерна при этом апелляция юного автора, которому, стоит напомнить, в это время не исполнилось и двадцати лет, к здравому смыслу, выступающему у Франклина как надежнейшее средство определения истинности любой идеи и оценки любого явления.
"Догматы веры и деяния религиозные" ("Articles of Belief and Acts of Religion"). Франклин по-прежнему открывает свое сочинение утверждением идеи существования "Верховного самого совершенного Существа, Творца и Отца самих богов". В соответствии со своими деистскими представлениями он еще более, чем в "Рассуждении", отдаляет это Верховное Существо от христианского Бога, так что оно в значительной мере приобретает форму абсолютной идеи, совершенного разума, а сам Франклин обращается к нему как к "Бесконечному" или "Абсолютно Совершенному", т. е. воплощению неких абстрактных качеств, фиксируя процесс абстрагирования в самой форме слова. На нем зиждется единство мироздания, в котором человек занимает более чем скромное место. По мнению Франклина, "человек — не самое совершенное существо, а скорее такое, что если есть существа в различной степени ниже его, то есть и. существа в различной степени выше его". Ясно, что он не разделяет воззрений, получивших широкое распространение в европейском Просвещении во второй половине XVIII в., согласно которым человек "от природы добр". Этот трезво-скептический взгляд на человека Франклин сохранил на всю жизнь. "Когда я напрягаю свое воображение,— пишет он в "Догматах",— простирая его по нашей системе планет и за нее, за сами зримые на постоянных местах звезды, в то пространство, что во все стороны бесконечно, и представляю его заполненным солнцами, подобными нашему, каждое с хором извечно вращающихся вокруг него миров, тогда этот маленький шарик, по которому мы движемся, кажется, даже моему ограниченному воображению, почти что ничем, а сам я — меньше, чем ничем, и не имеющим никакого значения". При такой ничтож-ночти земного, естественно, между ним и "Бесконечным" существует некая непреодолимая грань. Лишь из огромного тщеславия можно предположить, что Бесконечный хотя бы в малейшей степени интересуется "таким не имеющим значения ничтожеством (nothing), как человек". Поскольку последний не в силах, поясняет далее Франклин,— "составить какое-то положительное ясное представление о том, что бесконечно и непостижимо, я могу предположить лишь, что Он, Бесконечный отец, не ожидает и не требует от. нас какого-то поклонения или хвалы, но только, что он даже БЕСКОНЕЧНО ВЫШЕ ЭТОГО" (3; pp. 83, 84).
Это не означает, однако, что человек абсолютно отринут от божественного начала. Франклин вводит как бы посредников между "Бесконечным" и человеком — это те боги, которые сотворены "Абсолютно Совершенным". Характерна двойственность в отношении последних, отражающая проникновение в систему его мышления зачатков исторического подхода к религиозному опыту: "Возможно, эти сотворенные боги бессмертны, а, возможно, спустя столетия, они меняются и другие занимают их места".
Все они мудры, добры и могучи, все наделены даром творения. Таков и создатель "нашей системы", которого Франклину оказывается необходимо наделить "теми страстями, что он заронил в нас". Это он наделяет человека разумом, благодаря чему "мы способны созерцать его мудрость в его творении, он снисходит до заботы о нас, радуясь нашим хвалам и огорчаясь, когда мы пренебрегаем им или забываем о его славе". Этот Бог мало похож на владыку пуританской вселенной, обращающего на мир свое ярое око и во гневе занесшего над человечеством свою карающую десницу. Франклин говорит, что был бы "счастлив иметь столь мудрое, доброе и могучее существо своим другом". Подобно Эдвардсу, пытавшемуся возродить былую славу кальвинистского учения, Франклин уделяет внимание категории счастья. И хотя она получает у них различное толкование, само обращение двух ведущих американских мыслителей первой половины XVIII в. к этой проблеме говорит о существенных изменениях в национальном сознании. Франклин убежден, что Бог "рад счастью тех, кого он создал, и наслаждается им", более того, им создано "множество вещей, которые кажутся специально предназначенными для наслаждения человека", а потому он "не может огорчаться, видя, как тешатся его дети приятными занятиями разного рода и невинными наслаждениями". В число их входят, конечно, только те, что "не приносят вреда человеку": главным же условием счастья является добродетель, поскольку без нее "человек не может иметь никакого счастья в этом мире" (3; pp. 84, 85).
В следующем далее обращении к Богу Франклин просит его помощи в своих "неустанных стараниях и решениях по искоренению порока и приобщению к добродетели". Характерно, что перечисляя многие пороки, от которых он хочет быть избавлен, Франклин выносит на первое место "атеизм и неверие, нечестивость и богохульство", что свидетельствует о глубокой связи с вскормившей его пуританской культурой. С другой стороны, когда, завершая это обращение, он возносит благодарение Господу "За мир и свободу, за пищу и одеяние", "За общие блага воздуха и света, за полезный огонь и дивного вкуса воду", "За знания и литературу, и за всякие полезные искусства", "За жизнь и разум, и пользование речью" (3; pp. 88, 90), в его словах несомненно звучит голос нового века, века Просвещения. Так до Франклина в Америке никто не говорил, так до него никто не мыслил.
Став заметной фигурой в городе, он начал приобретать вес и влияние в обществе, обеспечившие ему со временем важные посты в городском управлении и управлении Пенсильванией, а впоследствии сделавшие его личностью общеамериканского масштаба.
— серия очерков, печатавшихся согласно обыкновению того времени не под собственным именем автора (чем уже ранее он воспользовался в серии "Сайленс Дугуд"), а под псевдонимом в 1728—1729 годах. Они вышли за подписью "Любопытный" (The Busy-Body), которая и стала названием серии.
второй половины семнадцатого столетия отцы церкви, Франклин намерен подвергнуть их жестокому осмеянию, руководствуясь при этом не соображениями тщеславия или "желанием выставить свои достоинства, но чисто во благо моей страны". Забота о благе родины — один из основных мотивов серии "Любопытный". Автор по-прежнему собирается соединять приятное с полезным, придавая наставлениям занимательную форму. Льстя национальным чувствам, что само по себе говорит о появлении новой черты в национальном сознании, отсутствовавшей веком ранее, Франклин, не смущаясь, объявляет, что "ни одна страна в мире не порождает естественным образом более прекрасных душ, чем наша, людей, наделенных гением в любой области науки и способных достичь совершенства в любом почтенном в человечестве занятии". Но недоступность хороших книг мешает реализовать имеющиеся возможности, отчего немало страдает и искусство беседы. Обещая представлять читающей публике свои "лекции о морали и философии", он будет также, "вместо старых и устаревших заметок из Московии или Венгрии", предлагать ей для развлечения специально подобранные "отрывки из какого-нибудь хорошего автора" (3; pp. 92, 93).
Нетрудно заметить, что, разоблачая те или иные пороки, Франклин вовсе не стремится уязвить какое-то конкретное лицо. Его сатира, направлена против самого порока, и потому персонажи, обрисованные в очерках,— это обобщенно-условные фигуры, выступающие олицетворением какой-то человеческой слабости, низменной черты или заблуждения. Живость им придают точно подмеченные детали поведения и характера, особым образом проявляющегося в определенных ситуациях, комическое заострение, юмор и остроумие автора. Один из наиболее удачных портретов подобного рода создан Франклином в четвертом очерке. Эта дурно воспитанная женщина, которая соответственно не может дать элементарного воспитания и своим детям, стала подлинным бедствием для своей лучшей подруги, слезно взывающей о помощи в своем письме к Любопытному. Автор письма — как видим, Франклин прибегает здесь к опробованному в "Сайленс Дугуд" приему двойной маски — характеризуется вполне положительно. Живя одна, она пытается сама обеспечить свое существование, содержа небольшую мелочную лавку. Однако все ее усилия идут прахом из-за беспрестанных визитов приятельницы, которая надоедает ей никчемными вопросами, мешает работе с покупателями и тем самым наносит вред ее делу, беспардонно встревая во все и бесцеремонно вмешиваясь в ее личную жизнь, в то время, как ее дети устраивают в лавке настоящий погром, разбрасывают по полу товары, смешивая различные виды изделий, пачкая их и поднимая такой шум, которого не может выдержать никто.
— пристрастие к злословию, ставшее модным увлечением людей, претендующих на заметное положение в свете. Отчетливо ощутимо в их характеристике нерасположение Франклина к светским замашкам подрастающего поколения, склоняющим его к праздности и пустому времяпрепровождению. К двум последним он, как известно, относился с особой непримиримостью, считая их воплощением нравственной несостоятельности аристократии. Подобный исполненный самомнения джентльмен, мнящий себя великим остроумцем, способен "часами развлекаться, потешаясь над тем, как у человека заломлена шляпа, над каблуками его башмаков, неосторожным выражением в его речи или даже каким-то личным изъяном", высшим достижением почитая способность "ввести кого-то из компании в краску". Эти новомодные веяния наполняют Любопытного "исполненными страха предчувствиями относительно будущей репутации (его — М. К.) страны. Скромный молодой человек (что есть самый верный знак больших способностей) не встречает в силу этого поддержки своим усилиям сделаться человеком, что-то из себя представляющим в жизни: боязнь быть осмеянным скорее вынудит его остаться в беспокойной безвестности, не имея возможности самому познать собственные достоинства или явить их миру, нежели заставит его осмелиться показаться в таком месте, где игра слов или издевка сходят за остроумие, шум — за разум, а сила доводов определяется по силе легких" (3; pp. 95, 94-95).
Введение еще одной маски — вновь под видом письма в газету — позволяет Франклину направить стрелы своей сатиры против тех, кто одержим желанием найти во что бы то ни стало клад: молва упорно твердит о том, что великое их множество было некогда зарыто здесь пиратами. Соблазнившись мыслью о мгновенном обогащении, "автор" письма растратил свое состояние на поиски клада: с юных лет он прилежно изучал "божественную науку, астрологию", покупая книги, которые затем перечитывал "более 300 раз" (3; р. 112), но все его попытки оказались безуспешными. Теперь он надеется поправить дела, заручившись поддержкой Любопытного и его наделенного даром ясновидения друга.
от них и станут следовать иным образцам. В "Любопытном" предлагается такой образец. Франклин дает ему имя Катон, замечая, что его герой "заслуживает это имя, которое ему ничуть не льстит". Выбор этого имени имел для Франклина двойной смысл: оно не только адресовало читателя к легендарному герою античности, но и к посвященной ему одноименной пьесе Аддисона, постановка которой в Лондоне в 1713 г. встретила восторженный прием. Живет франклиновский Катон "в самом глухом уголке страны", где, однако, глубоко почитаем соседями за "строгую справедливость и известную беспристрастность" настолько, что они сделали его арбитром в своих спорах, избавившись от "судебных издержек, суматохи и неизвестности". Рисуя портрет Катона, Франклин противопоставляет его праздным джентльменам, развлекающимся злословием. Одет он в "простейшую деревенскую одежду; его грубый камзол выглядел старым и потертым", и восхищение он вызывал естественно не "великолепием платья", не "совершенной фигурой", а своим обликом, в котором отражалось "величие души". В облике Катона проявляется умеренность, во всем отвечавшая этическим и эстетическим идеалам Франклина, не принимавшего крайностей, идеалу "золотой середины", что было одной из причин его решительного неприятия американскими романтиками. "Его облик,— пишет Франклин,— смягчен человечностью и благожелательством, а в то же время исполнен смелости и решительности, равно свободной от стыдливой робости и неподобающей уверенности". Заключая портрет героя перечислением качеств, благодаря которым Катон, "по справедливости заслуживает того, чтобы его почитали гордостью своей страны", Франклин называет "щедрое гостеприимство, оказываемое незнакомцам сообразно его возможностям, его благонравие, его благотворительность, его смелость в защите угнетенных, его верность в дружбе, смирение, честность и искренность, его умеренность и верность правительству, его набожность, воздержание (в пище и возлияниях — М. К.), его любовь к человечеству, его великодушие, его озабоченность общественным интересом и, в общем и целом, его Совершенную Добродетель" (3; pp. 96, 97).
В этом перечне душевных свойств и нравственных принципов, в совокупности своей отражающих глубинный демократизм автора, обращает на себя внимание их качественная разнонаправлен-ность. Одни тяготеют к сфере пуританских добродетелей (смирение, набожность, воздержание), другие — к традиционному кодексу поведения, чьи древние истоки фиксируются народной памятью в фольклоре (честность, искренность, верность в дружбе), наконец, третьи принадлежат к числу гражданских добродетелей, возводимых к античности, связь с которой намеренно подчеркнута Франклином с помощью имени героя его очерка (озабоченность общественным интересом, верность правительству своей страны). К последней категории примыкают совершенно новые общественные добродетели, обязанные своим появлением на свет развитию общественно-политической мысли Нового времени (смелость в защите угнетенных, любовь к человечеству). В подобном соединении разнородных элементов отражаются не только умонастроения автора, но и само состояние американской культуры в начале XVIII в. Она в полном смысле слова может быть названа переходной. Над ней еще сохраняют власть пуританские ценности, определяющие взаимоотношения человека с миром через его отношения с Богом. Однако она уже ощутила недостаточность и ограниченность одних только церковно-религиозных норм как регуляторов жизни, потребность иного, не богословского осмысления общественного бытия. Освобождаясь из объятий теологии, американская мысль находила опору в античности, утвердившейся в европейском сознании с эпохи Возрождения в качестве образца не только в области искусства, но и в вопросах общественного устройства. Набиравшее силу Просвещение выдвигало свою систему ценностей, которая также помогала освободиться от подчинения теологии. Общая направленность движения определилась — происходило обмирщение жизни и культуры, однако выбор еще не был сделан окончательно в пользу общества, покоящегося на основании светского мировосприятия. Речь, в первую очередь, идет о Новой Англии, с которой Франклин был кровно связан, хотя в своем развитии постепенно все более отдалялся от нее, но во многом это справедливо и в отношении средних колоний.
"Любопытном" художественное мастерство Франклина. Характеристики персонажей, олицетворяющих различные человеческие типы или пороки, стали более емкими и точными, освободились от излишних деталей. Он уже понял ненужность построения подробной биографии персонажа-маски, основу которого составляет четко очерченный характер, позволяющий проецировать определенную точку зрения на описываемые явления. Характер же создается обрисовкой обобщенно трактуемых черт душевного склада и поведения, а не описанием внешности или подробной биографией, излишняя индивидуальная конкретность которых вступала бы в противоречие с требованием обобщения, заложенном в самой природе сатиры.
Новую ноту внес в развитие литературных талантов Франклина "Альманах Бедного Ричарда", {Poor Richard, 1733. An Almanack...), выходивший ежегодно на протяжении 25 лет с 1732 г.
Он принадлежал к довольно распространенному в то время типу издания: это был календарь, соединявший сведения по астрономии, географии, сельскому хозяйству с объявлениями, советами по различным вопросам практического характера и пестрой смесью заметок популярно-информационного или морализатор-ского толка. Франклин сохранил форму этого издания. Его альманах был обращен прежде всего к земледельцам и ремесленникам, представлявшим основной круг его читателей, и он помещал там, подобно другим издателям, массу полезных сведений и советов. В "Альманахе Бедного Ричарда" Франклин, как ранее в сериях очерков, вновь прибегнул к персонажу-маске, от имени которого и вел разговор с читателем.
— человек "третьего сословия", плоть от плоти той среды, с которой он на протяжении четверти века поддерживал диалог. Равноправие партнеров обеспечивало особую доверительность, простоту и естественность высказываний. Франклин несомненно культивировал последние как качества литературного стиля, видя в них отражение истинной добродетели. Иными словами, его эстетический и этический идеалы были нераздельны. Об этом красноречиво свидетельствует заметка "О простоте" (1732), имеющая существенное значение для понимания философии и литературного творчества Франклина.
"простота была одеянием и языком мира, как природа — его законом", пишет в ней Франклин, со временем ее вытеснила хитрость и низкие ухищрения, слывущие "знанием жизни". Не находя простоты в современном ему мире, он обращает свой взор к античности: "Древние греки и римлянеЗчьи нетленные писания сохранили для нас деяния и нравы их соотечественников и которые были столь сведущи во всех формах и разумных удовольствиях жизни, столь преисполнены этого точного и прекрасного стиля и чувства, которые кажутся единственно пригодным методом передачи честных и открытых характеров героев, прославляемых ими, сделавших их и их писателей бессмертными". Ссылаясь на Бэкона, Франклин клеймит хитрость и коварство, торжествующие в окружающей жизни, но приносящие человечеству только зло. В заключение он противопоставляет им идеал простоты, которая "естественна и является высшей красотой природы, и все, что есть великолепного в искусствах, изобретенных человеком, предназначено либо демонстрировать эту самородную красоту и истину в природе, либо научить нас во всем списывать и копировать с нее" (3; pp. 181, 183).
Простота и естественность, избранная Франклином как высшая эстетическая ценность, в "Альманахе Бедного Ричарда" означала ориентацию^не на кабинетную ученость, а (на здравый смысл и мудрость многоопытного человека, трудом достигшего независимого положения в обществе и уважения к своим мнениям. Бедный Ричард охотно делится опытом с окружающими, не-зная- цену слова, облекает свои суждения в форму остроумных^ выразительных, напоминающих народные поговорки речений^ Франклин немало потрудился над отделкой бойких, буквально слетающих с пера афоризмов, которыми беспрестанно сыплет его герой; нередко он возвращался снова и снова к той же мысли в поисках самой яркой и лаконичной формы. При этом он широко использовал богатства, накопленные литературой на протяжении многих веков, обращаясь к сочинениям писателей античности, от Эзопа до Горация, а также сочинениям Бэкона, Рабле, Ларошфуко, Свифта, Поупа и множества других авторов. Немало ценного отыскал он и в сборниках народных поговорок и пословиц. Стихия народного юмора, с которой он непосредственно соприкасался, работая над "Альманахом", существенно обогатила арсенал художественных средств, которыми владел Франклин, расширила диапазон его творческих возможностей.
Образ Бедного Ричарда явился поистине оригинальным созданием Франклина. Его речевая характеристика была столь точна и выразительна, что за нею открывался контур характера, отличавшегося заметно большей целостностью и глубиной, чем привычный персонаж-маска. Неудивительно, что образу Бедного Ричарда предстояло открыть галерею американских литературных героев, от которых он, правда, существенным образом отличается, не являясь, строго говоря, литературным персонажем в полном смысле слова. Выступая сквозной фигурой серии нравоучительных очерков, этот образ выполняет роль связующего звена, объединяющего их в единое целое7]Однако это целостность иного рода, нежели целостность художественного повествования, заданная совокупностью элементов его структуры.
Заметно отразилось на отношении к этому образу и его создателю в дальнейшем то обстоятельство, что наибольшей популярностью пользовалась часть "Альманаха" под заглавием "Путь к изобилию" {The Way to Wealth, 1757), затмившая по числу изданий все остальные. В ней собраны изречения Ричарда, касающиеся экономических "добродетелей" (бережливости, заботы о своей пользе, осторожности в делах, сметливости, деловой хватки и т. п.), позволившие объявить Франклина провозвестником идей буржуазного накопительства. В основе подобного истолкования, которое можно встретить и у ряда современных исследователей, в частности, у Макса Вебера, лежит абсолютизация отдельной, вырванной из общего контекста жизни и творчества Франклина идеи, а также невнимание к форме ее изложения, когда, по справедливому замечанию американской исследовательницы Адриенн Кох, "содержащиеся в произведениях ирония и сатира"5 "Бедному Ричарду" не о сатире, а о юморе, притом весьма добродушном, а также об игровой стихии, пронизывающей всю его ткань и воплощающей полноту жизненных сил, душевное здоровье и оптимизм как самого героя, так и той среды, которую призван олицетворять.
Период, предшествовавший Американской революции, направил творчество Франклина по иному руслу. Разрастание завязавшегося между колониями и метрополией конфликта продиктовало изменение и тематики, и подхода к решению художественных задач, что позволяет говорить о начале в конце 50-х — середине 60-х годов нового этапа в литературном творчестве Франклина. Ведущее место в его сочинениях занимают теперь политические проблемы, оттесняя главенствовавшие до того вопросы морали на второй план, а сочный юмор, близкий к народным истокам, уступает место сатире. Как и ранее, созданные в этот период произведения не имеют чисто литературного характера: автор ставил целью не написание художественно самоценной вещи, а разрешение противоречий действительности. Тем не менее в них ярко выражено эстетическое начало, обеспечивающее в конечном счете успешное решение внеэстетических задач.
Примером может служить "Исторический очерк конституции и правительства Пенсильвании" (1759), в котором ярко обрисована борьба колонистов против ее владельцев, семейства Пеннов. Франклин выступает защитником прав и свобод колонии, оказавшихся под угрозой. Тон сочинению задает эпиграф: "Те, кто готов отказаться от основной свободы ради кратковременной безопасности, не заслуживает ни свободы, ни безопасности"6, вызывающий в памяти знаменитый стих Гете. Настойчиво и убедительно показывает Франклин необоснованность притязаний владельцев колонии. Очерк был напечатан в Лондоне, куда Франклин был направлен с миссией по поручению нескольких колоний для урегулирования возникших между ними и метрополией разногласий. Доводы автора нашли отклик в передовых кругах английской столицы, сочувственно встретивших появление этой работы.
необходимость союза с метрополией. Она отразилась, в частности, в "Допросе доктора Бенджамина Франклина в английской Палате общин" (1766), где он доказывал неправомочность действий Парламента в отношении колоний, прибегая к доводам здравого смысла, ссылкам на законы и исторические прецеденты. Эдмунд Берк, отнюдь не питавший симпатий ни к позиции колонистов, которую представлял Франклин, ни к самому Франклину, остроумно заметил, что парламентское разбирательство напоминало попытку школьников атаковать своего учителя.
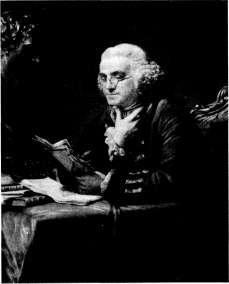
Однако ужесточение мер, принимаемых в отношении колоний в 60-е и первой половине 70-х годов метрополией, не внимавшей призывам и протестам колонистов, заставило Франклина изменить характер своих сочинений, которые приобрели небывалую политическую остроту. Теперь он обрушился на тиранов всей силой своей сатиры, продолжая, несмотря ни на что, надеяться на восстановление гармонии в отношениях между Англией и ее колониями. Бичуя противников американской свободы в "Эдикте прусского короля" ("An Edict by the King of Prussia", 1773), он использует популярную в литературе Просвещения форму притчи. В этом остром и хлестком политическим памфлете Франклин вновь прибегает к персонажу-маске. На этот раз это маска простака, с помощью которой он выявляет абсурдность политики английской короны в отношении американских колоний. Притязания Англии зло высмеиваются Франклином под видом эдикта, изданного якобы прусским королем, заявляющим права на Великобританию на том основании, что некогда она была заселена тевтонцами, а потому современные англичане — его законные подданные. К тому же, достигнутое Великобританией процветание — результат военной поддержки, какую веками оказывала ей Пруссия. Франклин мастерски использует в сатирических целях гиперболу, нагромождая утверждения одно нелепее другого, в которых тем не менее легко угадываются реальные акты, принятые английской короной. Однако в финале сатирический эффект несколько сглажен. Движимый упованиями на мирный исход конфликта, Франклин отказывается от маски и от собственного лица взывает к английскому закону и англичанам, столь высоко ценящим собственную свободу.
Сходные приемы использует Франклин и в "Руководстве к тому, как из великой империи сделать малую" (Rules by Which a Great Empire May be Reduced to a Small One, 1773), где он, словно бы помогая английскому королю исполнить его заветное желание, советует ему принять меры, которые непременно приведут к полному разрыву между Англией и ее американскими владениями, прозрачно намекая на реальные обстоятельства. Зло высмеивая гонителей свободы, он в то же время поднимал дух патриотически настроенных соотечественников, укрепляя в них веру в справедливость своего дела. В разгар споров о судьбах Америки Франклин создает также "Притчу против преследования" (1774), осуждающую любые формы религиозной нетерпимости, особенно характерные для американских пуритан. В той обстановке она в сущности призывала оставить разногласия и сплотиться перед лицом общей опасности.
— морали. В конце 70-х и на протяжении 80-х годов, несмотря на важность возложенной на него дипломатической миссии, с которой он был направлен в Париж, он создает свои знаменитые притчи: "Однодневка; символ человеческой жизни" (1778), "Свисток" (1779), "Диалог между Франклином и подагрой" (1780), "Искусство видеть приятные сны"" (1786), "Нравственность игры в шахматы" (1779) и ряд других, которые по праву считаются подлинными шедеврами. В них с мудрым лукавством и по-отечески мягким юмором философ-просветитель преподносит читателю свое понимание искусства жить: счастье ожидает того, кто, довольствуясь скромными и непритязательными житейскими радостями, стойко сносит посланные судьбой испытания и невзгоды, не обольщаясь ни пустыми упованиями на будущее, ни надеждой на вечное блаженство в мире ином. Урок облечен в ненавязчивую форму. Безыскусная по виду простота придает франклиновским притчам неповторимое очарование, а непринужденность и безупречная естественность манеры изложения исключают даже тень назидательности.
Неоценимый вклад внес Франклин в развитие американской общественной мысли своими сочинениями, посвященными индейцам и неграм. С поистине редкой для того времени последовательностью, свидетельствующей о широте его взглядов, он распространял просветительское учение о равенстве на представителей всех рас. Он был убежденным противником рабства и в своих статьях призывал положить ему конец, выступив основателем первого в Америке аболиционистского общества. Называя рабство "жестоким унижением человеческой природы", в своем "Обращении к населению" (1789) Франклин показывает неизбежную и страшную по своим последствиям деградацию человека под его влиянием и приводит это как наиболее убедительный довод в пользу отмены рабства: "Несчастный человек, с которым долго обращались, как с животным, очень часто опускается и не имеет человеческого достоинства. Тягостные цепи, которые связывают его тело, сковывают и его умственные способности и ослабляют общественную привязанность его сердца. Он привык двигаться, как машина, по желанию хозяина, у него приостанавливается мышление; у него нет права выбора; причины и следствия имеют очень небольшое влияние на его поведение, потому что им управляет чувство страха" (6; с. 412).
"При этих обстоятельствах свобода для него может часто оказаться несчастьем, и это будет пагубно для общества",— предупреждал он, предложив в "Плане улучшения условий существования свободных негров" (1775) ряд мер, осуществление которых помогло бы сделать их полноправными и полноценными гражданами республики. За 24 дня до смерти великий философ-просветитель опубликовал памфлет "О работорговле", ("On the Slave-Trade"), ставший своеобразным духовным завещанием Франклина. Вновь обратившись к одному из излюбленных жанров философской просветительской прозы — "восточной сказке", Франклин излил яд сатиры на защитников рабства и работорговли. Представленная в сказке аллегория блестяще пародирует дебаты в Конгрессе, проходившие в 1789 г., в связи с предложением Франклина о запрещении работорговли. Вновь выступая под маской, он предоставляет слово члену дивана Алжира Сиди Магомет Ибрагиму. Защищая институт рабства, знатный иноземец привлекает арсенал доказательств, мало изменившихся и поныне. Сатирический эффект достигается тем, что в его рассуждениях в роли рабов выступают "христианские собаки". Вначале алжирский вельможа говорит, что если отказаться от обращения в рабство христиан, в жарком климате некому будет обрабатывать поля,— ситуация содержит прозрачный намек на положение дел в южных штатах. В заключение Сиди Магомет повторяет один из главных доводов в пользу сохранения рабства в США, прибегнув к простейшей замене слова "христианство" на "мусульманство". Христиане на самом деле должны радоваться своему новому состоянию, заявляет он, так как в сущности "только меняют одно рабство на другое, и я бы сказал, на лучшее... Здесь они имеют возможность познакомиться с единственно истинным вероучением и тем самым спасти свои бессмертные души". Обрушиваясь на тех, кто все же освобождает рабов, подрывая тем самым существование столь необходимой для блага самих же рабов системы, Сиди Магомет приписывает их поступки низменным мотивам, ибо "не великодушие и не человеколюбие побуждает их к этому, а сознание тяжести грехов и надежда на избавление от проклятия за мнимую заслугу совершения такого доброго дела" (6; с. 414, 415, 416).
Примечательны сочинения Франклина, посвященные судьбам коренных обитателей континента. Жизнь индейцев представляла для него несомненный интерес, о чем говорят бесценные с исторической и этнографической точки зрения описания быта и обычаев индейцев, выполненные Франклином, переложения их преданий. Знакомство с их жизненным укладом привело его к идее союза колоний, прообразом которого послужила Лига шести племен во главе с ирокезами. Справедливости ради надо сказать, что у Франклина встречаются высказывания (к примеру, в "Автобиографии"), в которых отразился прагматический подход колонистов к взаимоотношениям с аборигенами, не лишенный известного цинизма. И все же именно Франклин выступил в защиту индейского народа, вытесняемого с его исконных земель. Еще в 50-е годы он резко осуждал жестокое истребление индейцев во время так называемых франко-индейских войн. В знаменитых "Заметках относительно дикарей Северной Америки" (1784) Франклин, развивая просветительские идеи, доказывал, что уклад жизни индейцев — порождение особых исторических условий и не может считаться доказательством их неполноценности. Напротив, утверждал он, индейцы, которых именуют "дикарями", во многих отношениях превосходят европейцев. Особенно привлекала Франклина простота уклада их жизни, которая была для него проявлением истинной добродетели, то, что, "имея незначительное количество искусственных потребностей, они располагают избытком досуга для усовершенствования в разговоре. Наш трудолюбивый образ жизни они по сравнению со своим считают рабским и низменным, а ученость, которую мы высоко ценим, пустячной и бесполезной" (6; с. 400). Есть чему европейцам поучиться у "дикарей" и в области нравов и воспитания, в которых, по мнению просветителя Франклина, проявлялось превосходство народа, верного законам природы, свободного от плачевных болезней цивилизации.
"Автобиографии" (Autobiography), ставшей по общему признанию первым произведением американской классики. Он работал над ней с продолжительными перерывами с 1771 по 1789 г., доведя свое жизнеописание до 1757 г. Первоначально "Автобиография" (она вошла в американскую литературу именно под таким названием7: в подлиннике — "Мемуары", Memoirs) была опубликована в 1791 г. во французском переводе. Впервые она была напечатана по-английски с оригинала лишь в 1868 г.— до той поры читателю предлагалось знакомиться с жизнеописанием Франклина по переложениям, выполненным с французских изданий, притом далеко не полным. Даже и тогда не обошлось без сокращений — американского обывателя шокировала откровенность некоторых суждений философа-просветителя. Полностью текст "Автобиографии" был опубликован только в XX в.
Открывает Франклин свое жизнеописание обращением к сыну, возможно, бессознательно следуя сложившейся в Новой Англии традиции, представленной в автобиографических сочинениях видных пуританских проповедников от Т. Шепарда до представителей влиятельного клана Мэзеров, полагавших, что их труды посмертно послужат делу наставления потомства на путь истинный. Когда Франклин приступил к работе над своим сочинением, его целью отнюдь не было бесхитростно поведать миру историю своей жизни. В своем жизненном пути он видел наглядный и поучительный пример, знакомство с которым может быть полезным v для его соотечественников. Рассказывая о себе в "Автобиографии", Франклин не нуждается в посреднической маске, к которой он часто прибегал в других своих произведениях,— ведь герой повествования, разумеется, не кто иной, как его автор. По видимости неспешно ведет Франклин бесхитростный рассказ о событиях своей жизни от самых ранних дней, о том, какие трудности ему приходилось преодолевать, о лишениях, выпавших на его долю, о жертвах, которые ему пришлось принести для достижения своих целей. При этом "простота" не остается лишь приметой стиля франклиновского повествования. В ней находит непосредственное воплощение высокий нравственный и социальный идеал автора. Из этого возникает абсолютная гармония стиля и содержания, отличающая "Автобиографию" Франклина.
сюжета своего повествования, этот образ в полной мере остается "портретом с натуры". Развернутый в "Автобиографии" внутренний сюжет представляет становление свободной независимой личности, чье утверждение в жизни достигается не благодаря преимуществам рождения, знатности, фамильных связей, т. е. того наследственного багажа, который был характерен для иерархического феодального общества, в котором он родился, но исключительно благодаря трудам и талантам самодеятельной личности. Соответственно в его облике подчеркиваются, выдвигаются на первый план черты, совершенно не характерные для традиционных литературных героев: трудолюбие, сметливость, стремление к знанию, наблюдательность, упорство, бережливость, уравновешенность. Впоследствии ряд этих качеств был поставлен в упрек автору, которого прямо обвиняли в пропаганде буржуазных ценностей: накопительства, умеренности, приспособленчества. Для подобных упреков было в сущности мало оснований. Нигде бережливость не выступает у Франклина как самостоятельная цель, оправдывающая страсть к наживе. Напротив, с первых страниц, где рассказывается, как еще подростком, только ограничивая себя во всем, он мог из своего скудного заработка наскребать деньги на книги, Франклин показывает ее как средство достижения и обеспечения подлинной свободы, в том числе и духовной. А такая задача, как прекрасно сознавал Франклин, стояла не только перед ним: это была задача всего человечества, едва начавшего освобождаться от пут феодализма, задавленных нищетой и бесправием масс, проблема счастья которых занимала одно из главных мест в философии Просвещения.
"Автобиографии", таким образом, есть не что иное как претворенный в жизнь идеал "нового человека", рожденный просветительской мыслью. Подлинность запечатленного в нем личного опыта автора служила неоспоримым доказательством не только правильного выбора его собственного жизненного пути, но и истинности социальных концепций, выработанных в лоне философии Просвещения. Огромное значение придавал Франклин достижимости подобного идеала, заключающего в себе потенциал широкомасштабных социальных преобразований, возможности его реального воплощения. В противном случае это означало бы несостоятельность заложенных в нем идей; иными словами, жизненность идеала заключалась в преодолении его идеальности. Писатель не только не видел к тому препятствий, но и, как мог, способствовал его превращению в своего рода "массовое явление", в частности, делая посредством "Автобиографии" свой опыт достоянием всех, кто вознамерился бы ему последовать. Таким образом должно было, по мысли Франклина, осуществляться "снятие идеальности" в реальной жизни. В ходе повествования он добивается этого эффекта широким использованием юмора и самоиронии, способствующих снижению повествовательной интонации. Что не менее существенно, они устраняют дистанцию между знаменитым автором и скромным читателем, к которому прежде всего обращался Франклин. Этому способствует также, постоянная погруженность повествования в мир практических дел, воссозданных обстоятельно и деловито и не позволяющих автору в устремленности к идеалу оторваться от земных забот, воспарить над реальностью. Неразрывная связь идеала и действительности — отличительная черта франклиновской "Автобиографии". Автор, без сомнения, знает, что его окружает "низкая" действительность, однако он не питает к ней ни отвращения, ни презрения, не бежит от нее в мир высокой мечты: его "высокая" мечта заключена в преобразовании действительности, которую он стремится сделать достойной человека. Из идеала рождается позыв к действию, вдохновленная идеалом деятельность обретает направленность, находящую воплощение в сугубо практических делах: от освещения улиц и их очистки от грязи до организации городской больницы, публичной библиотеки и Американского Философского общества.
Представленная в "Автобиографии" история восхождения человека из низов, при всей единичности отраженного в ней личного опыта, выражала коренные закономерности века Разума. Исключительную роль отводит Франклин в своем повествовании нравственному самосовершенствованию, подобно другим просветителям, видя в Разуме и просвещении его естественную опору. Подробно рассказывает он о системе самовоспитания, которую разработал еще в юные годы. Ее конечной целью было воспитание полезного гражданина. Однако, несмотря на простоту составленных им правил, искреннее желание и твердое решение идти путем добродетели, ему отнюдь не всегда удавалось следовать собственным принципам. Франклин честно и вместе с тем трогательно описывает ставившие его в тупик отклонения от намеченной цели. Воплощенные в сбоях программы самовоспитания представления о человеческой личности, о диалектике души, о соотношении разума и чувства выглядят достаточно наивными. В то же время в этих эпизодах присутствует ирония умудренного жизнью человека, с высоты своего жизненного опыта взирающего на неопытного юношу, который полагает, что понять и принять что-то умом — значит это осуществить, не ведая еще о пропасти между разумным решением и его воплощением.
При всей их кажущейся наивности наблюдения Франклина над собственной жизнью и личностью свидетельствуют об определенных завоеваниях американской литературы эпохи Просвещения. Претворяя абстрактные философские тезисы в конкретные человеческие отношения, примеривая их к реальному человеку, литература в этом жанре, наравне с европейским реалистическим романом XVIII в., придавала теоретическим выкладкам принципиально новое качество. Умозрительная схема уступает место неповторимому своеобразию уникальной человеческой личности, которая исключается жанровой природой трактата, эссе и другой философской прозы. Таким образом литература в мемуарном жанре активно осваивала категорию личности, ставшую мерилом оценки общетеоретических и социологических установок века Разума, которым был верен Франклин.
Подобно многим другим авторам того времени, обращавшимся к жанру воспоминаний, прежде всего Ж. -Ж. Руссо, Франклин, создавая свои "Мемуары", вносил заметные изменения в устоявшийся канон. В силу разнообразия исходных установок их сочинения имели различную направленность, в том числе и в эстетическом плане. Отмечая различие подходов ("Тогда как Руссо излил свою внутреннюю жизнь в форме исповеди, Франклин представил хронику своей общественной жизни"), современный американский исследователь Дж. М. Кокс подчеркивает, в частности, их роль именно в трансформации избранных ими форм: "И все же точно так же, как Руссо преобразовал исповедь, Франклин преобразовал мемуары. Хотя Франклин дает хронику своего восхождения от безвестности к славе (prominence), он не столько подавляет свою эмоциональную жизнь, сколько показывает процесс преобразования, использования и претворения своих желаний, внутренних конфликтов, сомнений и разочарований в образцовую жизнь, которой в свою очередь может воспользоваться потомство"8
Многогранная деятельность Франклина принесла ему известность как на родине, так и в Европе. Что следует подчеркнуть особо, широкое признание он получил не только как мыслитель, государственный муж и общественный деятель, стоявший у основания американского государства, но и как писатель. Своим литературным талантом Франклин покорил парижские салоны, им восхищались и в Англии, и в далекой России, о чем красноречиво свидетельствуют строки Н. М. Карамзина, вдохновленные "Автобиографией". Дэвид Юм, не колеблясь, назвал Франклина "первым великим литератором" Америки9.
Поистине безграничная прижизненная слава Франклина начала со временем постепенно меркнуть. Как для XVIII века он был воплощением революционного духа Америки, так для века XIX, в который Соединенные Штаты входили как царство чистогана, он стал олицетворением ее буржуазного духа. Именно этим объясняется острое неприятие Франклина романтиками, для которых он, говоря словами Шарля Бодлера, был "изобретателем морали прилавка, героем века, подчинившегося материи"10. Традиция эта сохранилась до нашего времени, хотя в целом можно говорить об утверждении более взвешенного взгляда на его личность и творчество. Сын своего века, Франклин, разумеется, не мог избежать исторической ограниченности просветительских теорий, как не мог и усмотреть противоречия между благоденствием отдельной личности и процветанием общества в условиях господства буржуазных отношений. Это не умаляет, однако, значения той борьбы, которую он вел, отстаивая идеи равенства и свободы, утверждая просветительский идеал "нового человека", способствуя делу духовного раскрепощения человечества.
"Не восхищаетесь ли Вы... этим невозмутимым и мощным разумом, который был в высшей степени практическим и полезным, который с равной легкостью и непринужденностью разбирался в хитросплетениях политики и строении мошки, который кажется перевоплощением гения Сократа — однако более полезного, более нравственного и более чистого",— обращался он в письме к своей корреспондентке, с характерной американской напористостью, подчеркивая практическое значение деятельности Франклина. Для Эмерсона, по-видимому, немало почерпнувшего из сочинений Франклина, особый смысл заключался в том факте, что его предшественник "был не словесным гладиатором; облаченным в доспехи силлогизмов, но мудрецом, использовавшим перо свое с тем новым эффектом, что считался принадлежностью меча. Он был человеком исключительной силы ума, ... как будто созданным с помощью личного воздействия осуществлять то, что обычно достигается медленной и тайной работой институтов и национального развития. Многие миллионы уже прожили, да и сейчас живы миллионы тех, кто всю свою жизнь испытывал мощное благое влияние франклиновых дел и сочинений. Его тонкая наблюдательность, его язвительное остроумие, его признанный разум и его добродетели, кроткие и величественные, заставили боготворить его во Франции, бояться в Англии и слушать в Америке" (5; р. 52).
1 Франклин Б. Автобиография. Памфлеты; Брэдфорд У. История поселения в Плимуте; Кревекер С. Дж. де. Письма американского фермера. М, 1987, с. 327.
2 Цит. по: Browning D. C. Everyman's Dictionary of Literary Biography English and American. L., Dent, N. Y., Dutton, 1958, p. 5.
4 May, Henry F. The Enlightenment in America. N. Y., Oxford Univ. Press, 1976, p. 22.
6 Франклин В. Избранные произведения. М., Госполитиздат, 1956, с. 104.
"автобиография" еще не существовало — он появился лишь в XIX в. По мнению ряда исследователей, само его появление было результатом тех кардинальных преобразований, которые произвели в жанрах "исповеди" и "мемуаров" Руссо и Франклин, чья новаторская роль в области литературы полностью соответствует их роли идеологов эпохи Просвещения и порожденных ею революций. См., к примеру, James М. Сох. Recovering Literature's Lost Ground. Baton Rouge and L., Louisiana State Univ. Press, 1989, pp. 11—21.
8 Cox J. M. Recovering Literature's Lost Ground. Baton Rouge and L., 1989, p. 15.
9 American Literature, 1764—1789. The Revolutionary Years. Ed. by Everett Emerson. Madison, Wise, Univ. of Wisconsin Press, 1977, p. 106.