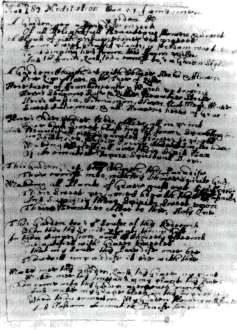
ЭДВАРД ТЭЙЛОР
Поэтическое творчество Эдварда Тэйлора (Edward Taylor, 16427—1729) является по общему признанию высшим достижением в развитии литературы американских колоний на протяжении 17-го столетия. Однако удостоилось оно столь высокой оценки совсем недавно, в середине XX в. И не потому, что поэзия Тэйлора была не понята его современниками — им она осталась фактически неизвестна. Поэтическое наследие Тэйлора принадлежит к числу новооткрытий, которые порой венчают кропотливый труд архивистов. При жизни автора его стихи не публиковались, и, судя по всему, он даже и не делал попыток их издать. Напечатаны были лишь две строфы из одного стихотворения Тэйлора в 1720 г. в проповеди Коттона Мэзера, из чего можно заключить, что он все же знакомил с ними самых близких друзей. Согласно семейному преданию, которое не подтверждено, однако, никакими сохранившимися документами, поэт запретил посмертную публикацию своих стихов, так что когда не осталось живых свидетелей, о стихотворном наследии Тэйлора позабыли, и на протяжении двух с лишним столетий рукописи его поэтических произведений пылились на полках сначала семейных, затем публичных архивов.
Судьба поэтического наследия Тэйлора чудесным образом изменилась, когда в 1937 г. в журнале "Нью-Инглэнд куортерли" была напечатана подборка его стихотворений, включавшая также отрывки из его поэм. Уже два года спустя, в 1939 г., вышел сборник его стихотворений с расширенным по сравнению с журнальной публикацией составом, выпущенный в 1943 г. вторым изданием. После ряда последовавших затем публикаций в периодической печати наиболее ценная, по мнению исследователей, часть поэтического наследия Тэйлора была собрана в солидном томе, который вышел в свет в I960 г. Эти издания, вызвавшие немалый интерес к творчеству и личности Тэйлора, способствовали публикации других его сочинений, известных ранее, но не привлекавших до того особого внимания исследователей,— "Дневника", проповедей и трактатов, большинство которых вошло в трехтомное издание (1981).
Сведения о жизни Тэйлора, как и многих американских колонистов первого поколения, крайне скудны. Особенно это относится к ранним годам. Он родился в Англии, в семье йомена в небольшой деревушке в Лестершире. Детство и отрочество будущего поэта пришлись на годы Английской революции, под воздействием которой проходило его духовное формирование. Именно тогда Тэйлор глубоко впитал доктрины пуританства, верность суровым заповедям которого пронес через всю жизнь. Высказывается предположение, что в отроческие годы он неплохо познакомился с прядильным производством, так как ввиду стесненных обстоятельств родители, по-видимому, определили его на работу в соседнюю деревушку. Основанием для подобных утверждений служит ряд стихотворений, где обильно используется характерная лексика, хотя с равным успехом можно полагать, что Тэйлор имел возможность узнать соответствующие выражения в собственном доме от жены, занимавшейся прядением и ткачеством, как все другие женщины того времени. Так или иначе, он получил неплохое образование в местной школе. Школьным учителем он и начал свою деятельность, вероятно, не предполагая в скором времени менять род занятий. Однатсо история распорядилась иначе.
ситуация, предшествовавшая началу революции. Новая власть брала реванш за потери и унижения в годы правления пуритан. Среди ее многочисленных акций был и акт о повиновении (1662), который должны были подписать все английские священнослужители. Он означал фактическое отречение от протестантского вероучения в любой его форме и обязательство безукоснительно следовать доктрине и обрядности официальной, т. е. англиканской церкви. Тэйлор был одним из тех двух тысяч человек, в основном священников, что отказались от его подписания. Это автоматически не только лишило его места школьного учителя, но и закрывало путь в Оксфорд и Кембридж, для обучения в которых требовалось выполнить то же условие. Правда, высказывается предположение, что еще до введения этого акта Тэйлор был студентом Кембриджа, однако также без каких-либо документальных подтверждений. Даже и в этом случае ему пришлось бы покинуть университет. В 1668 г. Тэйлор отправляется в добровольное изгнание. В Америке с его убеждениями его выбор был единственно возможным — Новая Англия. Здесь он сразу же поступает в Гарвард, где занимается не только изучением богословия и таких сопутствующих ему дисциплин, как риторика, но и медициной, увлекаясь особенно ботаникой и даже металловедением. В годы учения у Тэйлора завязываются дружеские отношения с Инкрисом Мэзе-ром и Сэмюэлем Сьюоллом, которые он сохранил на всю жизнь. По окончании, по-видимому, весьма успешном, он получает предложение остаться там в качестве ученого, но, согласившись, вскоре меняет решение, избрав и здесь своего рода изгнание. В 1671 г. Тэйлор становится пастором в крошечном поселении Уэстфилд на самой западной границе Коннектикута, за которым в буквальном смысле слова простиралась "пустыня", сакральное пространство, занимавшее умы и воображение ново-английских пуритан на протяжении столетия. Здесь он и прожил без малого шестьдесят лет, занимаясь — как священник и врач — исцелением духовных и телесных недугов, а также ведя хозяйство на ферме, обеспечивавшей существование семьи. Главным содержанием и итогом этой небогатой событиями, уединенной жизни стало поэтическое творчество, которое за ничтожным исключением осталось тайной для его окружения. Тэйлор никогда не обмолвился о нем ни в своих проповедях, ни в других сочинениях.
Само по себе это тайное занятие поэзией на протяжении десятилетий, плод которых сокрыт ото всех, с предельной наглядностью выявляет одну из важнейших сторон мировосприятия пуритан. Не доверяя чувственно-эмоциональному началу в человеке, воплощающему, по их твердому убеждению, его порочную природу, они стремились полностью изгнать из своей жизни искусство, которое в первую очередь обращено к сфере чувственного восприятия. Стоит остановиться на тех специфических последствиях, которые это имело в Новой Англии для развития поэзии.
Отношение ново-английских пуритан к искусству как профанному определило ту исключительную роль, которую они отводили слову. За ним сохранялась, однако, лишь одна функция: нести свет божественной истины, воплощенной в Библии. Магия же поэтического слова, иносказательность образного мышления оставалась у них под подозрением. Под сомнением оказалась сама правомерность использования предметов и явлений окружающего мира при истолковании духовных материй. Однако если вспомнить, что весь окружающий мир был для них лишь знаком мира трансцендентного, лишь его тенью, тогда едва ли не всякое рассуждение относилось именно к духовному миру. В сущности вопрос ставился о том, должна ли мысль в своем словесном облачении оставаться на уровне логической абстракции или же в нее допускались элементы образного мышления, пусть и в самой ограниченной форме. Любопытным свидетельством существовавших на сей счет разногласий является рассуждение одного из самых строгих приверженцев пуританской ортодоксии, Джона Коттона, который писал, что "человек, осененный знанием Божьей воли и таинства Спасения, может законно использовать в своих медитациях различных Тварей или Предметы, которые ему подходят или соответствуют для представления вещей Духовных"1. Очевидно, что такое право предоставлялось далеко не всем, причем особо оговаривалось, что человек не мог сам создавать эти знаки и символы (т. е. проводить параллели между явлениями материального и духовного мира), а должен был уметь улавливать и извлекать их из своего опыта. Несмотря на практическую невозможность их разграничения, на котором настаивал не один Коттон, существенно уже признание иносказания в качестве допустимого способа воплощения мысли, без которого невозможно само существование поэзии.
К тому времени, когда Тэйлор переселился в Америку, произошли заметные изменения в жизни пуританской общины, коснувшиеся в том числе и утвердившегося церковного ритуала, благодаря чему, по мнению исследователя колониального периода Л. Зиффа, сложились более благоприятные условия для развития искусства. Одним из них было выдвижение в центр богослужения молитвы, занявшей место, которое прежде отводилось проповеди. Это создавало сравнительно большую свободу выражения чувств и эмоций. Даже в проповеди, пишет Зифф,— "решающее значение имела спонтанность или, по крайней мере, ее видимость, ибо Дух прибегал к живому, а не писаному слову, иначе было бы достаточно самому читать Библию. Подобным же образом недоверие вызывали установленные формы молитвы, и впрямь считавшиеся противоречием, поскольку во время молитвы молящийся изливал свое открытое сердце, которое не могло быть искренним, если находило соответствие не в спонтанном всплеске, а в печатной формуле". Исследователь приходит к этому выводу на основе документальных свидетельств, ссылаясь, в частности, на красноречивое высказывание одного из видных деятелей ново-английского пуританства: "Мы не одобряем никакого чтения в молитве как неуместного, да, прямо противуположного сему акту... В молитве мы изливаем суть, а именно священные понятия души, изнутри наружу, т. е. от сердца к Богу; в чтении же, насупротив того, мы принимаем и поглощаем снаружи вовнутрь, т. е. из книги в сердце"2.
общий, канонизированный взгляд, потеряло былую привлекательность. Предпочтение было отдано непосредственному, единичному, личному — всему, что в какой-то мерс устраняет заслоны, препятствующие выражению индивидуального чувства. Сдвиги в пуританском сознании затронули, как видим, поначалу весьма ограниченную сферу бытия ново-английской общины, но в них отразилось изменившееся состояние души поселенцев, а это предмет, к которому неизменно более всего отзывчива поэзия.
Немаловажно, что к этому времени появились сочинения, в которых с пуританской точки зрения доказывалась возможность обращения к чувственному восприятию как в личном духовном опыте, так и в творчестве. Одним из них была объемистая книга Ричарда Бакстера (Richard Baxter) "Извечный покой святых" (The Saints Everlasting Rest, 1650). Она пользовалась огромной популярностью среди пуритан по обе стороны океана, о чем свидетельствует 9 ее изданий за двенадцать лет, и повлияла в частности на развитие поэзии. По замыслу автора она должна была служить руководством для пуританина на его пути к вечному блаженству. Особое значение приобрела ее четвертая часть, в которой говорилось, как посредством медитации удержать* "сердце на небе". Трактат Бакстера был своеобразной легитимацией чувства в сфере пуританской мысли, всегда относившейся к нему с крайним подозрением. "... если мы сможем обратить в друзей этих обычных наших врагов,— убеждает Бакстер,— и сделать их орудиями, поднимающими нас к Богу, каковые обыкновенно служат средством отвлечения нас от Бога, я думаю, мы совершим великолепное дело. ... ибо Бог не дал бы нам ни самих наших чувств, ни их обычных объектов, если бы не могли они послужить к его собственной Славе и быть в помощь нам, поднимая нас до понимания более высоких вещей" (1; р. 41).
В обоснование своей точки зрения Бакстер ссылается на Библию, где Святой Дух, истинный создатель священной книги, в своих описаниях прибегает к образам из реального мира для воплощения в слове явлений нематериального мира. Объясняя это "снисхождением" Бога к ограниченности возможностей человеческого разума, он задается затем вопросом, действительно ли следует думать, как это делают "паписты", что небо сотворено из жемчуга и золота, а ангелы едят и пьют. Ответ на этот риторический вопрос подсказан логикой его рассуждений: "Нет, мы не должны считать, что фигуральные выражения Духа призваны означать строгое соответствие или воображать вещи духовные имеющими плоть... Но вот что — думать, что представить их или говорить о них в строгом соответствии совершенно нам недоступно и за пределами наших возможностей, и следовательно мы должны представлять их так, как мы способны; и что Дух не представил бы их нам в этих понятиях, да нет у нас лучших понятий, с помощью которых постичь их; и следовательно мы можем использовать эти выражения Духа для обострения нашего постижения и чувств".
Эти и подобные им рассуждения Бакстера определили особую роль этого идеолога пуританства в развитии пуританской поэзии. Как пишет Роберт Дэйли, выпустивший в 1978 г. исследование, посвященное пуританской поэзии, в сочинениях Бакстера соединилось многое из того, что сделало "... пуританскую поэзию возможной: положительный подход к чувственному миру, признание того, что чувства, несмотря на их потенциальную опасность, играют свою роль в поклонении (Господу — М. К.), обоснование использования чувственных образов, извлеченных из тварного, для описания невидимых божественных вещей, и сложное, но последовательное предписание относительно употребления и границ языка в медитации (1; pp. 43, 41).
Достаточно широкое распространение воззрений Бакстера и других пуританских мыслителей, придерживавшихся сходных взглядов, в сочетании с тем перемещением извне вовнутрь объекта общественного и индивидуального внимания, которое отмечено Л. Зиффом, имело немаловажное значение для литературы, прежде всего поэзии Новой Англии. На тех же "пространственных" изменениях заостряет внимание видный исследователь пуританской культуры Перри Миллер, который связывает явно обозначившиеся в конце XVII столетия сдвиги в мышлении пуритан с крушением их миссии. Осознав, что великий божественный замысел, который они пытались воплотить в своем "Граде на Горе", неосуществим, пуритане, считает исследователь, утратили возможность постичь свою сущность через историю и даже через теологию: "Тогда эти граждане обнаружили, что больше им негде искать кроме как внутри самих себя, хотя на первый взгляд это прибежище оказалось не чем иным как вместилищем порока"3.
Неожиданно для себя он оказался в атмосфере разочарования и недовольства. Священники со своих кафедр твердили об утрате высоких идеалов, о вероотступничестве, о забвении, даже предательстве заветов отцов, упрекая пришедшее пъА на смену поколение в общем упадке нравов, гордыне и неповиновении, тяге к мирским удовольствиям и ценностям в ущерб служению Богу.
Тэйлор, принадлежавший по возрасту ко второму поколению, духовное родство ощущал не с ним, а с первым, и не находил для себя места, отвечающего его мировосприятию, в обмирщенной общине. Независимость нрава, с такой решительностью и последовательностью проявленная им на родине, исключала возможность компромиссов и в новых обстоятельствах. "Он прибыл слишком поздно и не застал славы колонии, так же, как он был и слишком молод для успехов Святых в Гражданской войне"4,— справедливо заметил Т. М. Дэйвис.
Не находя той связи с новым окружением, ради которой он и предпринял переселение за океан, Тэйлор замкнулся в сфере собственных переживаний, обратив свой взор внутрь и сделав свой голос средством выражения личной драмы, какой стало для него крушение миссии "отцов". Возможно, выбрав Уэстфилд как место постоянного проживания, он пытался как бы отменить приговор истории, подчинить бег времени своей воле. Сама его первая поездка туда, не вызванная никакой срочностью, но тем не менее совершенная в самых неблагоприятных обстоятельствах, когда Тэйлор, выехав верхом в метель, сбился в пути, едва не оставшись без ночлега, переправлялся через реку по трескавшемуся за ним льду и добрался до места во время урагана, была явно ответом на какие-то внутренние побуждения, заставлявшие его бросить этот вызов. Возможно, и прав Т. М. Дэйвис, когда говорит, что "движение на запад дало ему возможность вновь разыграть сагу первого поколения, стать самому отцом-основателем в следующей волне поселений. Переезд в дикий и необжитый Уэстфилд был таким же — если не большим — разрывом с прошлым, как отъезд из Англии. ... это был тэйлоровский способ вновь разыграть прошлое на своих собственных условиях"(4; р. XIII).
Сосредоточение на индивидуальном переживании, переход к которому Тэйлор ощущал как болезненный, в целом благоприятствовал развитию поэзии. При всей ее ограниченности достигнутая таким образом эмоциональная свобода, как утверждает Л. Зифф, обеспечила возможность "... наслаждения искусством литературы и занятия им. Поскольку, однако, эмоция была замкнута пределами индивидуума с его изолированными бурями и ей не позволялось примеряться к взглядам коллективным, ее литературное бытование, сложившееся в последующие годы, эффективно использовалось для выражения скорее психологических состояний, нежели социальных условий. Великих писателей, возросших на почве Новой Англии, занимали в первую очередь страсти духа, а не создание социальных полотен" (2; р. 124).
"страсти духа", воссозданные с различной силой экспрессии, убедительностью и даже степенью мастерства, применительно к ново-английскому пуританству XVII в., означают совсем не то, что ныне вкладывается в эти понятия. В них заключен внеличный взгляд на мир, присущий, пусть хотя бы и условно, всей общине. Для Тэйлора ее олицетворением была пуританская община, уходящая — или даже уже ушедшая — в прошлое. Подобный взгляд не связан с сугубо личным мировосприятием индивидуальности, которая явилась одним из революционных открытий Возрождения, но возвращает нас назад, в доренессансную эпоху к мироощущению, близкому человеку Средневековья, хотя оно и несколько трансформировалось под воздействием времени.
Такой внеличный взгляд сообщала Тэйлору пуританская доктрина, составляющая основу всей его поэзии. Уклад Новой Англии предполагал не просто подчинение индивидуального сознания общественной идеологии. Последняя представлялась наиболее полным и законченным — идеальным — воплощением индивидуального мировосприятия, очищенного от случайных примесей и наносов. Этот тип отношений, глубоко воспринятый Тэйлором, обеспечивал сочинениям ново-английских авторов, при всей их индивидуальной окраске, оттенок той "внеличностности", которая рисовалась идеалом Т. С. Элиоту.
В работах ряда американских исследователей проблема "внеличного" взгляда у Тэйлора трактуется в категориях маски. Так, известный исследователь пуританской культуры и литературы XVII—XVIII веков Эмори Эллиотт считает, что "главенствующей чертой пуританской поэзии семнадцатого века" была "тенденция к эмоциональной отстраненности и интеллектуальному упражнению". Поэзия эта, по его мнению, была "... чаще риторической, нежели личной, ... она обращалась к внешней аудитории и включала известную степень раздельности поэта и его persona, подобно драматической отстраненности, которую мы обнаруживаем в поэзии Джона Донна". Именно в использовании маски Э. Эллиотт обнаруживает сходство между Донном и Тэйлором, который "... принимает различные роли для исследования религиозных доктрин с помощью различных типов языка..."5.
К занятиям поэзией Тэйлор обратился еще в Англии и продолжал их по приезде в Америку практически на протяжении всей жизни, оставив весьма внушительное поэтическое наследие — во всяком случае в количественном отношении. По наблюдениям Т. М. Дэйвиса, им написано "... вдвое больше Мильтона, вчетверо больше Донна, впятеро — Брэдстрит и вшестеро — всего, что создано Уигглсуортом в целом". Поэтические сочинения Тэйлора весьма неравноценны по своим достоинствам. Но даже если исключить "Метрическую историю христианства" {Metric History of Christianity — название дано публикатором; "метрическая" — т. е. версифицированная), по общему признанию, наименее удачное из его творений, гигантскую поэму, по числу строк равную всем его произведениям вместе взятым, по объему написанного он оставляет далеко позади всех своих современников на поэтической ниве Новой Англии XVII в. Один этот факт говорит о том, что поэзия постоянно составляла главный предмет творческих устремлений Тэйлора. По справедливому замечанию Т. М. Дэйвиса, она "... сводит воедино и соединяет все главные интересы его жизни. <...> Тем не менее в самой его поэзии все эти интересы сфокусированы и определены" (4; р. XI).
В этом свете известные ранее факты приобретают новое значение. Так, в Гарварде Тэйлор принял участие в традиционном состязании поэтов выпускного класса, выступив со стихотворением, где доказывались преимущества английского языка по сравнению с греческим, латинским и древнееврейским, честь которых отстаивали — каждый на соответствующем языке — его соперники. Можно предположить, что для Тэйлора это выступление было чем-то большим, нежели простым выполнением академической программы, каким оно осталось для других участников этой церемонии.
со скорбью, вызванной утратой уважаемого человека, в них слышится нарастающее ощущение "оставленности" Новой Англии, которую один за другим покидают те, кто составил ее славу. Как и все ранние стихотворные опыты Тэйлора, эти элегии — не более, чем ученические упражнения, в которых игра слов и игра ума неизменно оттесняют чувство на задний план, хотя порой оно все же пробивается сквозь частокол формальной риторики. Так, например, в "Элегии на смерть святого Божьего человека м-ра Джона Аллена" после длинного списка имен усопших ново-английских патриархов вдруг раздается словно вырвавшийся из глубины души вопрос: неужели не останется никого, кто смог бы поведать о "Славе / Этой Колонии?"
В конце концов Тэйлору удалось достичь большей гармонии между доминирующим эмоциональным настроением общины, личным чувством, продиктовавшим стихотворение, и его выражением в элегиях, написанных в связи со смертью его жены, Элизабет, и Сэмюэля Хукера, но это произошло много лет спустя, на рубеже 80-х и 90-х годов XVII в. А пока, продолжая писать подобные стихи "на случай", Тэйлор отдает основное внимание переложению псалмов. Нельзя сказать, чтобы и они стали его большой поэтической удачей, но, обратившись к ним, Тэйлор, возможно, сам того не подозревая, открыл тот тип поэзии, который более всего отвечал характеру его мировидения и поэтического дарования. Его поэтическая речь нередко обретает в псалмах гибкость и полнозвучность, которых не заметно в созданных ранее вещах. Отдав несколько лет переложению псалмов. Тэйлор затем довольно надолго оставляет это занятие, однако не навсегда, так как впоследствии, в 80-е годы, создает вторую серию таких переложений.
Первым произведением духовной поэзии, которую открыл для себя Тэйлор через переложение библейских псалмов, является "Предопределение Господне относительно Избранных" {Gods Determinations Touching his Elect). Большинство современных исследователей склоняется к тому, что оно было написано в самом начале 80-х годов 17-го столетия или даже несколько ранее. Во всяком случае началом 80-х годов принято датировать ее сохранившуюся рукопись. Это аллегорическая поэма, близкая по своему характеру средневековым сочинениям, создававшимся в прозаической, поэтической и драматической формах. В ней действуют Христос, Милосердие и Справедливость, олицетворяющие два атрибута Бога, Святой, Душа и Сатана. Открывает поэму великолепный Пролог, в котором автор выражает восхищение совершенством сотворенного Богом мира. Стих звучит чеканно и торжественно, настраивая на радостно-возвышенный лад. В конце Пролога с введением темы грешного человека и бренности земного существования интонация меняется, приобретая трагическое звучание.
Заявив таким образом тему поэмы, Тэйлор далее развивает ее в форме чередующихся диалогов, монологов-обращений и монологов-ответов. В такой композиции ощущается влияние обряда богослужения, с присущим ему соединением молитвы, проповеди-наставления, ритуальных вопросов священника и ответов паствы.
Сюжет поэмы не сложен. Душа человека, которой уготованы за грехи вечные муки, жаждет спасения. На этом пути ее встречают аллегорические фигуры — Справедливость и Милосердие. Первая из них в соответствии с христианской традицией не позволяет Душе уверовать в спасение из-за тяжести совершенных ею грехов: ее справедливость — это справедливость наказания за небрежение к заветам Господа, тогда как вторая, напротив, всячески поддерживает Душу, убеждая в безграничности божьего милосердия и рисуя картины сладостного блаженства, которые должны направить ее на путь истинный. Сатана то угрозами, то ложными посулами, то прямым обманом пытается отвратить ее от добродетели, стараясь прежде всего разрушить веру. Поэма завершается полной победой Христа: приобщившись к христовой церкви, Душа возносится в небесные чертоги. Ей открылась истина христианского милосердия, даруемого милостью Бога-Сына, но путь к вечному блаженству требует усилий с ее стороны — искоренения собственных пороков, сопротивления царящему в мире злу.
христианского идеала Добра, Милосердия, Любви и т. д.), а внизу, в основании — Сатана (воплощение Зла, порока, греха, неизбежности кары и т. д.). Между этими полюсами и мечется Душа на протяжении поэмы, то восходя вверх, то низвергаясь в бездну, в силу чего образы падения и восхождения, исполненные символического значения, несут в поэме большую смысловую и эстетическую нагрузку. На каждом из полюсов происходит аккумуляция образов, наделенных устойчивой знаковой коннотацией: наверху — положительной, внизу — отрицательной, что усиливает противопоставление полюсов, расширяя разделяющее их пространство за счет знаковой несовместимости. Столь строгое разграничение свойственно "высокому стилю", и Тэйлор не стремится расширить сферу своей поэтики выходами за пределы нормативности, которая согласуется с не менее строгой нормативностью иерархического пуританского мышления.
Развернутое в поэме вертикальное пространство, определяющее движение сюжета, совершенно условно. Оно никак не соотносится с тем реальным, конкретным, историческим, бытовым пространством, в котором протекала жизнь поэта, хотя некоторые исследователи высказывают мысль о том, что в образе Сатаны и его борьбе с Христом нашла отражение отличавшаяся крайней жестокостью война с индейцами под водительством Короля Филипа во второй половине 70-х годов XVII в. 6. Вполне возможно, что она дала поэту определенный психологический импульс, а также подтолкнула к широкому использованию образности, связанной с военной сферой, однако ни прямых, ни косвенных свидетельств в пользу такой гипотезы текст не дает. Условность последовательно выдержана автором и не нарушается даже живописанием пороков, которыми дьявол старается завлечь Душу в свои сети. Ее погружение в реальный мир зла исключено развитием сюжета. Да в поэме Тэйлора в силу того, какое место отводилось в пуританском мышлении доктрине первородного греха, собственно и нет необходимости в таких "живых картинах" пороков. Грехопадение Адама навечно определило высшую меру человеческой порочности, которой отмечен каждый от рождения. Все пороки — лишь проявление, выведение наружу в тех или иных конкретных формах этой изначальной внутренней порочности. Внимая уговорам Сатаны, обольщающего ее видениями сладкой жизни, в которой она не будет знать ни трудностей, ни мучений, Душа все же не преступает запретной черты, избегая испытания реальным опытом. Ее колебания не находят выражения в поступке, совершаясь лишь внутри ее сознания, что придает действию от начала и до конца сугубо отвлеченный характер.
Даже в средневековой литературе грешник, как правило, хотя бы через аллегорию сталкивался с реальным миром зла, предавшись разгулу гибельных страстей. В таких знаменитых пьесах, как "Натура" {Nature), "Человечество" {Mankind), "Мир и дитя" {Mundus et Infans), общение протагониста с персонажами, которые служат олицетворением смертных грехов, участие в эпизодах, изображающих его нравственное падение, неизменно придавало действенность дидактическому посылу, облекая его в наглядные формы. Противопоставление божественной благодати и царства порока, идейной и нравственной антитезы царства добра, проводилось, следовательно, и на уровне поэтики по линии абстрактного и конкретного. У Тэйлора как искус, так и искупление от начала до конца вьщержаны на уровне абстракции. Соблазны порока живописует Сатана, точно так же поступает и Милосердие, рисуя Душе будущее блаженство. И то, и другое представлено исключительно как идея.
Такое художественное решение усиливает отвлеченный характер поэмы, замыкая ее в рамках своего времени, хотя и выражает сущность разворачивающейся в ней христианской драмы — вечного космического поединка Добра и Зла. Однако даже столь высокая степень абстракции, предусмотренная замыслом, не позволила совершенно избежать вторжения элементов реального, хотя проявилось это в сравнительно узкой сфере. Исключенная на композиционно-сюжетном уровне, конкретизация, адресованная к живому опыту, сохраняет за собой уровень описания, выступая одним из средств характеристики персонажей и событий. Она проявляется в изображении психологических состояний смятенной Души, в монологах персонажей, среди которых особенно выделяются коварные речи Сатаны, а также во множестве мелких деталей и отдельных образов, разбросанных по всему тексту поэмы.
— аллегория возможности спасения, открытого каждому, воплощение божественного совершенства. Сначала люди устремляются к ней, точно покупатели, облепившие лоток торговца, но, узнав цену, бросают "захватанный" товар, из соображений мелочной выгоды отвергая лучшее и прельщаясь худшим. В том же монологе Христос уподобляет воздействие, производимое на погрязших в пороке грешников видом божественного совершенства, действию на организм испорченного соуса. Не довольствуясь этим достаточно оригинальным сравнением, поэт создает разветвленный образ, воспроизводя симптомы и проявления болезни в выразительных и точных медицинских подробностях, хорошо знакомых Тэйлору по его врачебной практике. У страдальца пучит живот, начинаются корчи, слабеют члены, подступает тошнота — так он мучается, покуда тело не очистится рвотой, "изрыгнув" вместе с ней и душевную тоску. Когда Святой, пытаясь утихомирить Душу, чьи вопли нарушают гармонию небес, сам создает еще больше шума, поэт не без юмора сравнивает эту сцену с тем, как если бы кто-то, жела,я успокоить расшалившегося ребенка, дал ему поиграть ножом.
Подобные столкновения, нередко неожиданные и весьма смелые, высокого, абстрактного, идеального с реалиями повседневного существования "низкого" или даже низменного свойства, безусловно, создают яркий художественный эффект, усиливающий воздействие на читателя.
Большой интерес представляет поэма и с точки зрения поэтической техники. Она отмечена таким разнообразием размеров и типов строфики, какого нет во всех остальных произведениях Тэйлора, вместе взятых. Благодаря варьированию поэтических размеров и строфической организации стиха Тэйлору удается избежать ритмической и интонационной монотонности, заметной во многих крупных произведениях, однако в то же время этот "фейерверк" стихотворной техники все же несколько нарушает единство замысла. Свобода обращения со стихотворными формами в "Предопределении Господнем" говорит о возможностях Тэйлора-поэта, вероятно, не раскрывшихся до конца,— в целом в его творчестве доминирует своеобразный поэтический аскетизм.
Особенно интересен в поэме "Ответ Христа", близкий по своей мелодике, поэтическому и лексическому строю народной песне — случай исключительный в поэзии Тэйлора, да и во всей колониальной поэзии, ориентировавшейся на книжные, "ученые" образцы. В обращении Христа к терзаемой сомнениями Душе использованы характерные для фольклора ласкательные обращения, которые соединяются песенной интонацией, выдержанной на протяжении всего монолога. Не разрушая существенной для замысла поэмы иерархии высокого-низкого, они придают их отношениям особую задушевность и нежность, создавая отвечающее представлению о божьей любви и милосердии ощущение заботы и отеческого покровительства великого малому.
О влиянии фольклора свидетельствуют также афористические выражения, сходные с меткими, народными изречениями. Ими буквально пестрят речи Сатаны, который бойко сыплет софизмами, пытаясь ложной мудростью сокрушить сопротивление греху. Например:
Святой-то млад, да Дьявол стар.
Столь естественное обращение Тэйлора к английскому фольклору — американского тогда еще и не существовало, само его зарождение относится к более позднему периоду — свидетельство того, что связи, соединявшие литературу колоний с литературой "старой родины", не были оборваны и продолжали питать складывавшуюся в Америке поэтическую. традицию.
Однако главным истоком поэзии Тэйлора были традиции метафизической поэзии, к которой принадлежит основная часть его собственного поэтического наследия. Черты, свойственные творчеству английских поэтов-метафизиков, проявились и в "Предопределении Господнем". Одна из них — аргументация, опирающаяся на научные познания того времени. К примеру, Христос уверяет отчаявшуюся, запуганную дьяволом Душу, что ей ничего не грозит, пока приветственно "не поцелуются Полюса" Земли и не "сойдутся параллели". Этот образ, доносящий свежесть и новизну взгляда на мир эпохи географических открытий,— в то же время еще и явная реминисценция из Герберта, чье творчество оказало заметное влияние на формирование поэтической индивидуальности Тэйлора. Однако, заимствовав этот образ у английского поэта, он не просто "цитирует" его, но и заметно изменяет. У Герберта образ принадлежит авторской речи, свидетельствуя о широте географических познаний поэта, игравших, начиная с эпохи Возрождения, столь важную роль в формировании новой картины мира. Передав этот образ Христу, носителю высшего знания, Тэйлор делает его воплощением одного из непреложных свойств самого мира, аксиомой, не требующей со стороны поэта никаких дополнительных доказательств, как не требуют их традиционные. образы текущих вспять рек или высохших морей, которые с безошибочным художественным чутьем использовал в своей лирике Берне.
Многочисленны в поэме, как и в других произведениях Тэйлора, упоминания о различных благовониях, ароматических составах, смолах, сплавах, да и сам творец именуется в ней "Химиком".
английской поэзии приемам аллитерации, ритмическим и звуковым повторам, характерным для английского языка семантическим удвоениям, усиливающим звуковую игру.
Так, исполненный особой значимости образ падения оказывается поддержан в поэме и чисто языковыми средствами. Вот один из характерных примеров использования Тэйлором приемов звукописи:
Although we fall and fall, and fall, andfall
And Satan fall on us as fast...
(Хотя мы вниз скользим, вниз, вниз и вниз,
Первая строка приведенного фрагмента, кроме поставленных в ее начале уступительного союза и местоимения-подлежащего, включает единственное значащее слово fall (падаем), чередующееся с союзом и и подхваченное еще одним падаем в следующей строке. Благодаря многократному повторению одного слова, значимость которого подчеркнута аллитерацией в конце второй строки, стих обрушивается, как грозный вал, сметающий грешников в бездну порока, тяжесть которого передается чистой звукописью.
Обращает на себя внимание предельная экономность средств художественной выразительности, с помощью которых поэт добивается желаемого эффекта. В отдельных пассажах Тэйлор достигает необычайной виртуозности, не теряя в то же время ни смысла, ни естественности интонации. Прекрасным примером его поэтического мастерства могут служить следующие строки, в которых в весьма своеобразной форме проявляется изощренность его стиха:
... he fiveth in
A. Dying Life, and Living Death by Sin.
Some figments of excuses death devise...
... живя в Грехе тут, он
В Жизнь Смертную и Смерть Живую погружен.
Хоть Жизнь Безжизненную он влачит,
Идея ущербности жизни грешника воплощена поэтом не столько посредством пластического образа, сколько с помощью выразительных возможностей самого слова. Основную смысловую нагрузку несут сведенные в малом пространстве антонимы жизнь и смерть. Смысл их противопоставления многократно усилен вариационным повторением однокоренных с ними слов в различных формах и сочетаниях в соединении со сквозной аллитерацией (звуки d, I, s) и тавтологическими повторами, а также грамматическим параллелизмом.
И все же в художественном отношении поэма оказалась неровной. Наряду с замечательными поэтическими удачами, в ней немало явных длиннот (диалог Справедливости и Милосердия), встречаются вялые, безжизненные пассажи, неуклюжие обороты, натужные строки и маловыразительные образы. Не все персонажи очерчены столь же ярко и четко, как Христос и особенно Сатана. Расплывчатостью страдают образы Души и Святого, лишенные всякой характерности. Но, пожалуй, главный изъян "Предопределения Господня" коренится в отвлеченно-умозрительном характере авторского замысла, исключившего возможность драматизации сюжета, который оставляет современного читателя холодным. Было бы любопытно сравнить нынешнее прочтение поэмы с отношением современников поэта, что несомненно прояснило бы эстетическую позицию Тэйлора. К сожалению, в силу известных причин этого сделать нельзя.
Абстракция, отталкивающая читателя XX в., создается в поэме не приращением смысла или, если сохранять верность воззрениям ее автора, его переводом на высший уровень — она задана изначально системой аллегорических персонажей и условным сюжетом, ничтожные возможности развития которого остались в поэме нереализованными.
Если отвлечься от персонажей, которые суть аллегории идей, развитие действия в поэме строится по чисто логическому принципу: тезис — антитезис. Бинарность изначально заложена в замысле, позволяя легко разгадать исход. Именно поэтому финал поэмы впрлне мог быть иным. Не внося никаких изменений ни в содержание, ни в идею, ни в сюжет поэмы, Тэйлор мог без всякого ущерба для ее смысла и художественного эффекта завершить свое произведение прямо противоположным образом — не победой Христа, после которой Душа должна вознестись на небеса, а победой Сатаны, обрекающей ее на вечные муки в аду. В сущности это была бы всего лишь остановка в другой точке чисто линейного развития действия поэмы, подчиненного целиком дидактической задаче — спасению грешной души. Она с равным успехом решается при любой из бинарных концовок. Описание блаженства, даруемого праведнику, и адских пыток, уготованных грешнику, должны одинаково удерживать нестойкую душу на стезе добродетели. Возможно даже, что второй из вариантов показался бы более убедительным современникам поэта. Недаром размышляя о добродетелях христианина, знаменитый пуританский проповедник середины XVII в. Томас Шепард записывал: "... вообще люди под розгой лучше, нежели получая милости"7 решения слишком очевидны изначально, чтобы возбуждать читательский интерес, который не в силах удержать и яркие поэтические находки Тэйлора.
Своей поэтической славой Тэйлор обязай "Медитациям". Он писал их с 1682 по 1725 г., разделив на две серии, из которых первая относится к начальному периоду, длившемуся до 1692 г., а вторая соответственно — к последнему, с 1693 по 1725 г., хотя причины, побудившие поэта к их разграничению, неясны. Их полное название — "Приготовительные Медитации перед моим приближением к Святому Причастию" {Preparatory Meditations before ту approach to the Lords Supper). В идейном плане объединяющая роль принадлежит в "Медитациях" пуританской доктрине, которая определяет их суть. В ней же по своему значению выделяются идеи первородного греха, неотвратимости божьей кары и спасения избранных благодаря милосердию Господа. Однако, как явствует из заглавия, сам Тэйлор считал необходимым подчеркнуть, что "Медитации" связаны с причастием, одним из двух великих таинств, сохраненных пуританами (вторым было крещение верующего). По его проповедям и богословским трактатам известно, что в системе его мышления причастию отводилась исключительно важная роль как ритуалу, в котором осуществляется непосредственная связь человека и Бога.
Создавая "Медитации", Тэйлор нашел в пуританстве не только комплекс идей, послуживших их основой, но и форму. Медитация занимала важное место в духовной жизни Новой Англии того времени. Унаследованная от католиков, несмотря на антикатолическую направленность Реформации, она получила распространение среди пуритан в Англии еще в конце шестнадцатого столетия. Не отказались от этой практики и те из них, что отправились за океан возводить свой "Град на Горе", сохранив без каких-либо изменений и самый ее метод, разработанный Игнатием Лойолой. Медитация рассматривалась как особое духовное упражнение, направленное на приближение верующего к Богу, причем не столько посредством умопостижения (хотя оно и составляло определенную часть "упражнения"), сколько путем пробуждения эмоций.
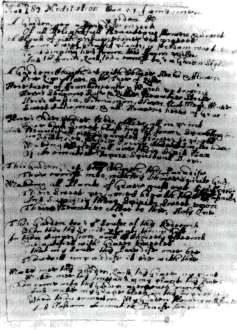
Страница рукописи Эдварда Тэйлора «Приготовительные медитации».
На эту двойственность обращал внимание Томас Хукер**, по словам которого медитация преследует "... две цели: первое, дальнейшее постижение истины и, второе, воздействие посредством их на чувства" (1; р. 39). "Краткий катехизис" (1648) Вестминстерской Ассамблеи, приверженцем которого был Тэй-лор, предложивший его в качестве своего символа веры при основании церкви в Уэстфилде, определил медитацию как долг верующего в ходе приготовления к причастию. Аналогичным образом толковал этот вопрос и Ричард Бакстер, настаивавший, что долг этот должен исполняться, даже если для этого необходимо принуждение духа. Тэйлор, который был знаком с трудом Бакстера, упоминавшимся в начале главы, по всей вероятности, не оставил без внимания суждений этого столпа пуританизма.
"свободное" размышление на божественные темы. Согласно определению св. Франциска Сальского, "когда мы думаем о небесных предметах не затем, чтобы узнать, но полюбить их, это называется "медитировать", а упражнение в этом — Медитацией". Одной любовью, однако, не ограничивалось: по словам английского богослова Ричарда Гиббонса, наряду с "упражнением в добродетели" медитация должна была включать также "ненависть и уклонение от греха". Бакстер в своей книге уточняет, что источником негативных чувств является дуализм человеческой природы: "... насколько вы духовны, вы не нуждаетесь во всем этом старании и понуждении (striving and violence); но так обстоит лишь отчасти, отчасти же вы плотские; и коль скоро это так, о легкости не может быть речи" (курсив мой.— М. К.). Медитация, таким образом, по определению, сопряжена с душевной борьбой двоякого рода, связанной, с одной стороны, с процессом подготовки к ней, а с другой,— с ее предметом. Рождавшийся в душе верующего отклик включал в зависимости от объекта внутреннего созерцания противоположные по характеру чувства, расположенные как бы в одной плоскости, но в широком диапазоне: радость, восторг, благоговение — при виде божественной истины, красоты и совершенства и скорбь, стыд, уныние, отвращение, боль — перед лицом собственной порочности. Чувства эти также соотносятся по принципу выше/ниже, т. е. организуются вертикалью.
Таковы общие духовные установки, из которых исходил Тэйлор при создании "Медитаций". Достоверно известно, что писались они каждый раз параллельно тексту проповеди, которую Тэйлор читал своей пастве в Уэстфилдской церкви, и на тот же библейский стих. Библейская подоснова обеспечивает единство замысла в целом при отсутствии каких-либо композиционных скреп и полной самостоятельности каждого стихотворения. Интимная связь между поэзией и проповедью также вырастает из современной Тэйлору религиозной литературы. Так, Бакстер в полном согласии с традицией определяет медитацию как "Проповедование самому себе", утверждая, что "... тот самый Метод, который должен использовать Священник, проповедуя другим, должен использовать Христианин, разговаривая с самим собой"8.
Как поэт и священник, Тэйлор соединял в себе обе эти ипостаси, присутствующие и в его "Медитациях". По точному замечанию Т. М. Дэйвиса, они позволяют "... соединить главный исторический интерес пуританства с главным обрядовым делом жизни Тэйлора" (4; р. XVI).
"Медитации" — каждая в отдельности и все совокупно — строятся как непрерывный монолог, обращенный к Богу. Такая структура, с точки зрения поэта, обладала тем несомненным преимуществом, что могла бесконечно и беспрепятственно разрастаться, не рискуя никогда истощить тему, столкнуться с недостатком материала или, наконец, исчерпанностью замысла. Монолог открывает картину острейших и мучительнейших духовных борений, в которых стремление к высшим ценностям, воплощенным в Боге, соединяется у поэта с сознанием- собственного несовершенства.
Как и в "Предопределении Господнем", с которым "Медитации" имеют немало общего, объект, на который направлено внимание автора, и в то же время арена изображаемой борьбы — человеческая душа. Но если в поэме это душа абстрактная, аллегория Души грешника, в "Медитациях" это душа самого поэта. То, что ранее рассматривалось со стороны, конструировалось на основе отвлеченных понятий, призванных раскрыть общие черты, теперь обнажается изнутри. В центре оказывается лирическое переживание, исполненное большого внутреннего драматизма. Эмоциональная палитра необычайно ярка и многообразна. Она соединяет — нередко в пределах одного стихотворения — ликование, патетику, умиление, обращенные к Богу и сотворенному им миру, и тревогу, гнев, отвращение, отчаяние, которые направлены на себя, сопрягая их в резких диссонансах. Обрисовка эмоциональных состояний, в которой дается воля непосредственному, искреннему чувству, не оставляет в стихах Тэйлора места привычной пуританской рассудочности, умозрительности и пресной дидактике.
"Медитаций", так же, как и в "Предопределении Господнем",— вертикаль, отвечающая традиционной христианской иерархии. Разделение верхнего и нижнего полюсов, неподвижно закрепленных в пространстве, отражает вечное противостояние Добра и Зла, олицетворяемых Богом и Дьяволом. Однако поэтический мир Тэйлора не кажется неподвижным, застывшим. Разделенные пространственно, полюса идейно не могут существовать друг без друга, поскольку связаны по принципу антиномии, и устранение одного из них означало бы и устранение другого. Соединительным звеном между ними выступает дух поэта, который не знает покоя и находится в постоянном движении, стремительно перемещаясь по вертикали то в одном, то в другом направлении. Любовь к Добродетели и жажда спасения обращают его помыслы ввысь, тогда как греховная человеческая природа, вопреки его желанию, тянет вниз. В сжатой форме Тэйлор выразил это в рефрене "Ответа" на "Медитацию" 1.2. Мысль, воплощенная в нем, образует своего рода лейтмотив обеих серий "Приготовительных медитаций", придающий им при полной самостоятельности известную целостность и внутреннее единство:
Ах! если б на земле ты был со мной,
Иль я вверху на Небесах с тобой.
В "Медитации" 1.8 Тэйлор последовательно разрабатывает эту идею на всем пространстве стихотворения. С большим мастерством и изобретательностью развертывает он образы взлета и падения, символизирующие разрыв идеального и реального. Открывается "Медитация" картиной звездного неба. Созерцая его, поэт обнаруживает "золотую тропинку", которой "не смог бы провести" его карандаш,— она ведет от престола Всевышнего к двери его собственного дома. Затем он видит на пороге "Хлеб Жизни". Но установленный таким образом союз смертного и божественного нарушается во второй строфе: "Райская Птица" (его душа), помещенная в "Плетеную Клетку" (его тело), вкушает запретный плод (аллюзия на первородный грех) и лишается хлеба духовного. Видя ее страдания, описанию которых посвящена третья строфа, Бог приходит ей на помощь, посылая на землю своего "дорогого-дорогого Сына". Его размолотое, замешанное и испеченное тело превращается в "Хлеб Жизни" (метафора причастия, в свою очередь являющаяся метафорой спасительной жертвы Христа). Завершается стихотворение обращением Бога к душе с призывом вкусить "Хлеба Жизни", избавляющего от смерти. Финал, таким образом, замыкает кольцо, имплицитно возвращая лирического героя на небеса, вечное пристанище обретшей бессмертие души.
По эту сторону трансцендентного мира, к которому устремлен его дух, поэт развертывает не картину запечатленного поэтическими средствами реального, земного мира, а столь же беспредельное пространство души, разрывающейся между жаждой приобщения к высшему нравственному идеалу и сознанием собственной неизбывной порочности. Избранное Тэйлором в "Приготовительных медитациях" решение пространственных отношений, выдержанное с необычайной последовательностью, определяет идейно-композиционное своеобразие его гигантского лирического цикла.
"ростовщиками, которые будут досаждать людям, и изгрызут лица бедняков, и высосут кровь терпящих нужду; они будут изводить людей. <...> Так и медитация, она изводит душу бедного грешника и убивает ее: ты содеял прелюбодеяние в углу, но тебе это не сойдет с рук" (1; р. 39).
В своих "Медитациях" Тэйлор словно бы прямо следует совету знаменитого проповедника:
Я все скорблю; скорблю. О, горе мне!
Была ль Душа, подобная моей?
Ушат помоев, мерзкий, грязный Хлев,
Вонь ямы выгребной, Гниль, Слизь, Труха,
Ларь с ядом и вместилище Греха.
Была ль Душа, подобная моей?
Сравнится ль с ней Исчадье Ада?
Тут Сатаны Приволье и Услада.
С Волшбой он в Кегельбане пустит шар
И кегли все снесет в один удар.
("Медитация" 1.40, февр. 1690г.)
"запущенного шара", видимо, представлялся поэту особенно выразительным, так как он не раз встречается в его произведениях. Характерно, что в поэтическом мире Тэйлора, очень четко знаково маркированном, этот образ не имеет никакой знаковой привязанности. В Прологе к поэме "Предопределение Господне" он возникает в описании сотворения мира — шаром играет Бог. Его игра — творческая: играючи, Бог выводит на небосклон золотой шар Солнца, дарующего жизнь. Тэйлор великолепно обыгрывает созвучие слов sun/son, сопрягая жизнь с жертвенным подвигом Христа. В противоположность Сатане, который, забавляясь запусканием шаров, сеет гибель ("кегли все снесет"), божественная игра несет людям вечное спасение. Очевидно, что нейтральный образ шара получает знаковую коннотацию исключительно в зависимости от того, в чьи руки вкладывает его поэт.
Основное же содержание "Медитации" 1.40 составляет "изведение души", по убеждению Тэйлора, погрязшей в пороке. В глаза бросается обилие синонимических образов, призванных передать омерзительность греха и потрясение поэта, обратившего "глаза зрачками в душу". Напор поэтического чувства так силен, что для воплощения открывшегося его внутреннему взору зрелища Тэйлору оказывается как бы недостаточно одного образа или даже связки образов. Острота переживания не позволяет поэту прибегнуть к традиционному приему разработки образа — под давлением охватившего его страдания он обрушивает каскады образов, которые удерживает от распада пронизывающая их сквозная мысль.
Даже и в этом отношении Тэйлор в сущности следовал установившейся традиции. В рекомендациях английского богослова Томаса Дулитла относительно приготовления к причастию под одним из пунктов значится: "И здесь будет не бесполезно, как не будет и неуместно представить Каталог твоих грехов"9. Именно такой каталог предлагает Тэйлор в "Медитации" 1.40, которая отнюдь не составляет исключения. Развернутце каталоги — характерная черта образного строя "Медитаций", призванная выразить духовный опыт пуританина, терзаемого мыслью о своей греховности. В результате образность Тэйлора отмечена исключительной плотностью. Фигуры, в которых иносказательно раскрывается содержание того или иного понятия или состояния, образуют нескончаемые цепочки. Взаимодействие между их звеньями определяется не простой последовательностью, когда увеличению ряда соответствует равное приращение смысла.
Один из первооткрывателей творчества Тэйлора, Дональд Стэнфорд, выступавший в качестве как публикатора его сочинений, так и автора посвященных ему работ, находит подобное художественное решение недостаточно убедительным. В поддержку своего взгляда он ссылается на "Медитацию" 1.20. Ее основное содержание составляет вознесение Христа на небеса, в котором заключена надежда лирического героя на спасение. Сначала Христос мчит в своем "Сверкающем Портшезе по Серебристым небесам" (присутствующий в строках анахронизм — портшезы начали входить в моду как раз в конце XVII в.— отнюдь не смущает поэта: это один из примеров художественного новаторства Тэйлора, граничащего с дерзостью). Затем говорится, что он едет в колеснице; в следующей строфе Христос восходит по золотым и яшмовым ступеням, а затем вдруг вновь идет речь о колеснице: "... такая непоследовательность характерна для Тэйлора",— заключает Стэнфорд (9; р. 24). В сущности согласен с ним в этом вопросе и Норман Грабо, автор первого монографического исследования о Тэйлоре. который, по его мнению, "... скорее развивает идею или лежащую в ее основе логику, нежели сам образ... Однако в результате такой сосредоточенности на идеях мало что можно сказать о разработке центральной части в его стихах" (8; р. 138).
чем ограничение, налагаемое природой самого искусства слова, ограничение, преодоление которого вдохновило художественные поиски многих писателей XX в., пытавшихся различными способами достичь эффекта "одновременности". В семнадцатом столетии пора подобных экспериментов еще не пришла. У Тэйлора иная природа симультанности: она уходит корнями в средневековое мышление и культуру, а совершенной формой ее воплощения оказалась живопись. Ибо то, что в слове может быть развернуто лишь в виде последовательности, без усилий, легко и естественно располагается на полотне, т. е. существует одновременно (ср. распространенный тип русской иконы с житием, а в западной традиции — изображения святых, включающих символы их мученичества и таким образом совмещающие различные планы времени: конкретное — настоящее и будущее, и вечное). Ансамбль в подобной картине, по точному наблюдению А. Я. Гуревича, "организован на основе соседства, а не по правилам единства"10. Аналогичным образом рисует и Тэйлор свои картины в "Медитации" 1.20. Называя их картинами, поскольку это образы безусловно зрительные, следует помнить, что изображается в них не то, что видит человеческий глаз. Поэт воссоздает мир, открывшийся не физическому, а духовному его зрению,— мир высших истин, управляемый законами, ничего общего не имеющими с привычными законами повседневного человеческого существования, и не поверяемый его скудной логикой. Это видения, в которых духовные сущности облечены, но не превращены в доступные человеку зримо-материальные формы. Приверженность этому характерно средневековому пониманию пространства и взаимоотношений земного и трансцендентного во многом определяет специфику художественной мысли Тэйлора.
Каталоги у Тэйлора принципиально открыты, разомкнуты, и каждый новый дополнительный элемент стремится в них не столько к обособлению от соседних, сколько к уточнению содержания того понятия, которое объединяет его с остальными членами ряда и в сущности неисчерпаемо. В перспективе такая цепочка образов предстает как бесконечность, видимые и невидимые (неназванные, но подразумеваемые самой бесконечностью) компоненты которой теснятся, создавая впечатление предельного насыщения пространства стиха. Это усугубляется особенностями английского языка: основная масса слов приходится в нем на односложные, что особенно существенно для поэзии, поскольку такое слово равно слогу стопы. В нанизывании образов, приводящих к необычайному уплотнению художественной ткани, проявляется своеобразие поэтического почерка Тэйлора.
Словесное самобичевание, которому поэт подвергает себя в "Медитациях", не было для него чисто ритуальным жестом, как не было оно и простой иллюстрацией в стихах тех или иных положений пуританской доктрины. Признание и осуждение собственной греховности — условие и необходимая стадия очищения души, без которых невозможно помышлять о спасении. Известный американский исследователь культуры Новой Англии С. Бер-кович отмечает: "Пуританам суждено было разработать анатомию внутреннего состояния. Поскольку они были самыми активными из участников Реформации, они стали самыми сведущими и красноречивыми аналитиками неискоренимого человеческого порока. Самоанализ Тэйлора принимает форму соше'ствия в "Начищенный горшок зловонных экскрементов", в лабиринт иллюзий, полный "Страхов, Сердечных Мук, Скорби". Его образность кажется сдержанной по сравнению с другими кальвинистами, предшествующими и последующими, содрогающимися от отвращения к собственному греху". Из мироощущения пуритан рождается гипертрофированная образность: они, пишет Беркович, "говорят не о пятнах, а о "навозных кучах", "топях Грязи", "Сгустках Похоти", "Трясине и Иле"11.
Обилие подобного рода образов в поэзии Тэйлора говорит не о приспособлении поэтом своего индивидуального видения к общепринятому канону, а о том, насколько органично было его единство с пуританской культурой, насколько глубоко и подлинно переживал он драму пуританского сознания. Только достигнув дна грозящей ему вечными муками бездны порока, мог пуританин начать восхождение к Господу, только очернив себя, получал надежду очиститься и приблизиться к ослепительной белизне Христа.
"Медитациях" вертикальному разделению пространства. Верху соответствует белый цвет и свет, низу — черный и тьма. Поэт искусно обыгрывает в стихах символическое значение цвета. Большой экспрессивности достигает Тэйлор к примеру, в "Медитации" 1.27, сополагая "Черного Грешника" и "Белую Справедливость". Оригинален метафорический образ "черной души" в "Медитации" 1.24 — груз грехов, отягощающих душу лирического героя, так велик, что даже его глаза источают не слезы, а чернила. Прием конкретизации метафоры, с помощью которого создан этот образ,— один из наиболее часто встречающихся у Тэйлора.
Как и пространственная вертикаль, контраст белого и черного принадлежит к числу организующих принципов поэтического мира "Медитаций". Переходя из одного стихотворения в другое, он редко выступает сам по себе, как правило, сочетаясь в разработке темы с другими, более конкретными образами.
О! Что есть человек? Что, Боже, есмь я?
Чтоб ты ему Закон дал (Злата Нить),
Им мерить жизнь, Мысль, Слово. Ну а Время
Небесный скличешь суд из Ангельских когорт.
Ты там, вверху,— он в прахе распростерт.
Как Ангелы твои твоим очам
Чернь дел моих и белизну являют?
Но ропщет плоть. По праву ли? Кто знает?
Прав, нет ли — не предстанешь пред судом.
Все ж приговор мне вынесут на нем?
("Медитация" 1.38, июль 1690г.)
бытовых деталей, относящихся к судопроизводству и развивающих центральный образ стихотворения — образ Божьего суда. Органически сплетаются с ними чернота и белизна дел грешника, которым предстоит лечь на чаши весов божественного правосудия.
Однако черный и белый — не единственные цвета, в которые окрашен поэтический мир Тэйлора, хотя на них и возложена главная смысловая нагрузка. В "Медитациях" упоминаются сапфиры и рубины, серебро, золото и пурпур, хрустальные фиалы, жемчужные врата и яшмовые шкатулки, заставляющие созданный силой поэтического воображения мир сиять, переливаясь всеми цветами радуги. Восходит это многоцветье, которое, однако, лишь "подцвечивает" основные тона, к библейской традиции. Обилие подобных образов порождает впечатление необыкновенной пышности и праздничности, а поэтический мир "Медитаций" окрашивается в ярко выраженные чувственные тона, где роскошь описания адресована всем органам человеческого восприятия. Поэтическое слово не только пробуждает интеллект, к которому прежде всего обращались пуритане, но вовлекает в сферу своего воздействия, наряду с привычными зрением и слухом, также осязание и обоняние.
Бросающаяся в глаза роскошь изобразительной палитры "Приготовительных медитаций" проистекает не просто из личных вкусов или пристрастий поэта, тем более, что в других его сочинениях, как написанных ранее, так и создававшихся параллельно с ними, например, элегиях или стихах "на случай", эта склонность ощутимо себя не проявляет, за исключением, пожалуй, "Предопределения Господня". В яркой праздничности поэтического убранства "Медитаций" говорит многовековая традиция духовной поэзии, опирающаяся на четкие каноны и строгий этикет.
Освещая проблемы средневековой литературы, Д. С. Лихачев писал, что "литературный этикет и выработанные им литературные каноны — наиболее типичная средневековая условно-нормативная связь содержания с формой"12 устойчивость форм, приемов, поэтических формул, отдельных образов. Передаваемые словно по'эстафете от одного сочинения к другому, они складываются в канон, мало подверженный изменениям и воплощающий своей неподвижностью незыблемость христианских истин. У Тэйлора в "Медитациях" совершается возврат — по неизбежности только частичный, конечно,— к структурам средневековой поэзии, соотносимый с аналогичным обращением пуританской мысли к Средневековью. Это придает его поэтическому творчеству налет архаичности, не свойственной современным ему английским поэтам-метафизикам, с которыми его принято сравнивать.
аромат вина и благовоний, драгоценные ларцы и сосуды и т. д.) и соседствуют со столь же чувственно выразительными образами, наделенными безоговорочно негативным содержанием (выгребная яма, гниль, помои, свинарник и т. д.), Тэйлор, как правило, предлагает знакомые его аудитории канонизированные словесные формулы, почерпнутые из Библии и богословской литературы. Однако в его работе по литературному трафарету есть момент, заслуживающий особого внимания. Традиционный этикет духовной поэзии далеко не тождествен пуританскому литературному этикету — последний, наследуя ту его часть, которая связана с краеугольными понятиями христианства, от многого и отрекался, в том числе — от всякого украшательства, от чувственного богатства образов, которые плохо согласовались с его аскетически суровым идеалом. Тэйлор не мог, вероятно, не ощутить противоречия между эстетикой, заложенной в древней традиции, и эстетической нормой, на которую ориентировалась пуританская община. Не исключено, что это обстоятельство было не последней причиной, побудившей поэта сохранить тайну своего поэтического творчества. Расхождение Тэйлора с эстетическими установками его окружения дало основание некоторым исследователям говорить о тайных симпатиях поэта к католицизму и рассматривать его произведения в русле католической традиции.
Обращение к канону подтолкнуло развитие поэтической мысли Тэйлора, помогло обрести подлинный поэтический голос. В отличие от большинства современных ему ново-английских стихотворцев, он умел приводить в гармонию с общим художественным замыслом традиционные образы и выражения, сообщая им новизну и силу звучания, эмоциональную свежесть и смысловую наполненность.
Глубина поэтического чувства, владеющего Тэйлором в "Медитациях", сила его творческого дара, особенно проявились в передаче душевных состояний, которые составляют в них единственный предмет изображения. В обрисовке метаний духа, озаренного светом высшей истины и удрученного сознанием собственной порочности, сами изъяны поэтической формы становятся средством воплощения душевных страданий, преодоления трудностей, которые встают на пути к совершенству. В подобной трактовке жизненного пути как внутренней борьбы именно душа выступает носителем низменного, греховного начала. Это, по убеждению исследователя творчества Тэйлора Уильяма Шейка, несмотря на присутствие в его поэзии элементов мистицизма, отличает миросозерцание Тэйлора от мировосприятия подлинных мистиков, для которых олицетворением скверны является окружающий мир. В творчестве поэта он отмечает "... бросающееся в глаза отсутствие мотива contemptus mundi (презрение к миру — М. К.), с которым обычно ассоциируется мышление мистика". Этот вывод, считает исследователь, подтверждается осязаемой вещностью поэтической образности Тэйлора, тем, что душевные борения "... никогда не побуждали его к удалению от мира или бегству во "внутренний рай". Хотя его медитации были внутренними драмами, в них фактически представлено "я", которое оставалось укорененным во временном мире". Последнее, предупреждает Шейк, не следует понимать буквально: "Медитации", разумеется, не "... отражают специфического времени и места — в них нет явных указаний на Уэстфилд,— но их заполняет мир человека, его заботы, его орудия и тому подобное"13.
"Медитациях" образам "трафаретным" или создаваемым поэтом по аналогичному принципу. Заимствованные некогда из реального мира они дошли до Тэйлора в уже опосредованном литературной (прежде всего библейской) традицией виде. В его поэзии эти этикетные образы "забывают" о своем материально-вещественном содержании, становятся знаком, эмблемой трансцендентного мира, свидетельствуя о преломлении в творчестве поэта одной из характернейших черт пуританского сознания — эмблематичности14
В разработке образной системы "Медитаций" опирался Тэйлор и на утвердившуюся в пуританстве традицию аллегорического чтения. По свидетельству Д. Стэнфорда, в личной библиотеке поэта находился экземпляр "Христианского" словаря" (1616) Томаса Уилларда, в котором такие образы из "Песни Песней", как "губы его — лилии",— пишет исследователь,— истолковывались как доктрина Слова, "два сосца" — как два библейских завета, "живот" — как инструмент духовного насыщения, т. е. вера в Слово. Однако даже если понимать его аллегорически, язык все же остается чувственным, а Песня Песней давала пуританскому священнику возможность щедро и с удовольствием вводить эротическую образность" (9; р. 23). Последняя оказалась вполне уместна в "Медитациях" и отнюдь не нарушала их образного строя, поскольку грядущее соединение человеческой души с Христом повсеместно предстает у Тэйлора как мистический брачный союз. При этом он существенно переосмысляет традиционный образ брака: в отличие от общепринятого истолкования невесты как аллегории церкви, у него в образе невесты предстает душа грешника. Напряженность поэтического чувства так велика, что Тэйлор нередко приближается в "Медитациях" к любовной лирике, что отчасти также заложено в библейском каноне, особенно в Песне Песней, отголосками которой насыщены стихи. "Любовный" акцент сказывается и в лексике "Медитаций", и в общей приподнятости взволнованной поэтической речи. Обжигающая страстность выводит медитативную поэзию Тэйлора за пределы чистого созерцания и пиетизма.
— высший символ божественного милосердия и любви к человеку, обретающему в нем спасение. Но предложенное Тэйло-ром решение даже и этой темы, наиболее располагающей к истолкованию в духе мистицизма, не позволяет рассматривать поэзию Тэйлора как мистическую. По убеждению У. Шейка, тема Христовой любви, "... если читать ее в свете поэтического этикета Тэйлора",— а только так ее и следует читать, добавим мы,— "опровергает любое представление об утрате себя в мистическом молчании. <...> ... он никогда не пересек моста своего словесного благочестия и не ушел, чтобы погрузиться в слепящий свет и порождающее немоту молчание мистической уверенности и союза" (13; р. 156).
Что касается этикета, которому несомненно следовал Тэйлор, уместно напомнить здесь то, как определял Д. С. Лихачев задачи авторов произведений, написанных в "высоком стиле", к числу которых принадлежат "Медитации",— "найти общее, абсолютное и вечное в частном, конкретном и временном, "невещественное" в вещественном, христианские истины во всех явлениях жизни" (12; с. 103).
соответствующие использованному им слову, не настоящие янтарные ларцы, алые розы, серебряные блюда, райских птиц или зловоние, гниль, труху — за ними стоят не имеющие материальной оболочки качества, отношения, идеи. В основе такого рода образности лежит перенос значений, свойственный всякой иносказательной речи: материальные предметы (драгоценности, ароматы, цветы и т. д.) выступают у Тэйлора воплощением абстрактных, в том числе сакральных понятий. Когда в одной из "Медитаций" упоминается, к примеру, "золотое блюдо из золотого сервиза" на столе перед Богом, имеются в виду присущие Богу высшие добродетели. В подобном соотношении реального и абстрактного, материального и отвлеченного проявляется сходство с поэтикой барокко.
Прибегает Тэйлор в "Медитациях" и к такому испытанному у пуритан способу аллегорического чтения, как "типология". Убедительным примером ее использования может служить группа стихотворений, которой открывается вторая серия "Медитаций". Так, основой "Медитации" 2.7 является сопоставление Иисуса с Иосифом Прекрасным, а в "Медитации" 2.9 — с Моисеем. В обоих случаях события жизни ветхозаветного персонажа ("типа") выстраиваются как параллель жизни Христа ("антитипа").
Известное сходство с "Медитациями" имеют такие стихотворения, как "Пауку, уловляющему муху", "Домоводство Господне", "Об осе, сраженной холодом", хотя в них и отсутствует специфически библейская образность и представлены чисто бытовые ситуации. Естественные, житейские ассоциации создают впечатление непосредственности высказывания, рождающегося из наблюдений над самыми обыденными событиями повседневного существования. За ними, однако, отчетливо просматривается второй план: соотнося эпизоды будничной жизни с миром трансцендентных истин, поэт придает стихам отчетливую морализатор-скую окраску, но яркая, временами неожиданно смелая образность снижает прямолинейную навязчивость наставления. Великолепно проявились эти черты поэтики Тэйлора в стихотворении "Домоводство Господне".
— Слово, вещее досель.
Мои пристрастья — колесом вскрути,
Катушкой — душу. И скорей кудель,
Мою веретеном соделав речь,
(перев. А. Эппеля)
Неожиданность развернутых в стихотворении образов позволяет поэту по-новому раскрыть идею всемогущества Бога. Парадоксальность образных решений сближает поэзию Тэйлора с творчеством английских поэтов-метафизиков XVII в., с которыми его объединяет как обращение к области духовной поэзии, так и подход к художественному воплощению религиозной проблематики и выбор средств художественной выразительности. Не удивительно, что в стихах Тэйлора обнаруживается немало точек соприкосновения с произведениями, выходившими из-под пера Джона Донна, Джорджа Герберта, Ричарда Крэшоу, Томаса Траэрна, Генри Воана. "Тэйлор использовал все их стилистические приемы,— замечает Н. Грабо,— discordia concors (зд.— гармоническая дисгармония — М. К.), резкие столкновения выражений и образов, парадокс, оксюморон, легкую с виду разработку религиозных материй, развернутые метафоры причудливого свойства и шокирующие или поразительные примеры остроумия. Как и они, Тэйлор обладает также поразительным диапазоном образности, от самой туманной и ученой до самой скромной и обыденной" (8; р. 169).
Особенно обращают на себя внимание встречающиеся у Тэйлора прямые переклички со стихами Герберта, к которому восходит, в частности, сравнение человека с "пылинкой", передающее мысль о его ничтожности перед лицом божественного всемогущества и величия. Необходимо сказать, что сравнение с английским поэтом в искусстве стихосложения складывается явно не в пользу Тэйлора. Тогда как поэзию Герберта, с ее богатством ритмики и строфики, формальной изобретательностью и тонкостью нюансировки, отличает мастерское владение поэтической техникой, многие строки, а нередко и строфы или даже отдельные стихотворения Тэйлора тяжеловесны и неуклюжи, монотонны по интонации и отнюдь не радуют разнообразием поэтических форм. Видно, что порой ему бывало нелегко выдерживать заданный ритм и размер или подыскивать рифму. Справедливости ради следует, однако, сказать, что в "Предопределении Господнем", а также в стихотворениях, написанных в разные годы "на случай", вроде "Домоводства Господня", где поэт не чувствовал сдерживающей узды единого замысла, Тэйлор обращался со стихотворными формами достаточно свободно. Это позволяет предположить, что смущающее критиков несовершенство его стиха и однообразие формы в "Медитациях" проистекают не столько из недостаточной искушенности Тэйлора в приемах версификации, сколько из сознательно сделанного выбора. Возможно, желая избежать искушений запретного для пуританина украшательства, поэт неизменно придерживался в "Медитациях" одной формы, имевшей, однако, то преимущество, что она именно своей неизменностью подчеркивала их художественное единство.
"недостает утонченности классиков (т. е. античных авторов — М. К.) и гуманистов" (9; р. 44). Это не позволяет, по его мнению, поставить поэзию Тэйлора в один ряд с творчеством английских поэтов-метафизиков. Но независимо от ее оценки необходимо понимать, что те формальные моменты, о которых идет речь, отражают своеобразие поэтического видения Тэйлора. Как и отказ от многообразия поэтических форм, исключение образности, восходящей к традициям античной литературы, продиктовано отнюдь не пробелами в его образовании. Выпускник Гарварда, Тэйлор был прекрасно знаком с сочинениями греческих и римских писателей, перевод которых был в то время одной из главных форм изучения древних языков. О его умении играть этими образами говорит письмо к Сэмюэлю Сьюоллу, который в 1696 г. предложил своему давнему однокашнику нечто вроде литературного состязания. В своем ответе Тэйлор свободно оперирует "классическими аллюзиями, искусно выдерживая в то же время образ простака из глуши: "Я живу вдали от рощ, где обитают Музы, и густые туманы, ниспадающие на мое жилище в этих таких далеких от Геликоновой обители болотах, где мало что a la mode, кроме дремучей неотесанности, будут молить за меня о прощении: стрелы моего разума не оперены серебряной риторикой, как не напитаны они и академической ученостью" (8; pp. 25—26). Очевидное и в том, и в другом случае самоограничение, добровольно принятое поэтом, предстает своеобразной аскезой, призванной искупать допускаемые в "Медитациях" вольности поэтического духа.
"Стилистические приемы сами по себе,— замечает Н. Грабо,— ... не являются показателем положения Тэйлора в истории английского стиха" (8; р. 169). Корень расхождений — в различии мировосприятия. Тэйлору, обосновавшемуся в поселении, затерянном среди девственных лесов, где обитали "дикари", абсолютно чужда изысканность чувств поэзии Герберта, которая отмечена эмоциональной сдержанностью и непогрешимым чувством меры, "джентльменским пиетизмом", как назвал его У. Х. Оден. Точно так же английскому поэту, в центре поэтического мира которого находились, если вновь прибегнуть к определению Одена' "обрядовые манеры и стили пиетизма"15, были не свойственны резкие эмоциональные перепады, бурные порывы мятущейся души, ошеломляющие читателя в "Медитациях". По мнению Д. Стэнфорда, истоки различия художественных миров Герберта и Тэйлора — в изначальной разнице их общественного положения и воспитания: "Тогда неудивительно, что поэзия Герберта тиха, приглушенна, тонко смодулирована, а стихи Тэйлора порой режут слух, грубы и неотесанны. Герберт редко бывает излишне многословен и вычурен, Тэйлор — зачастую. И все же в наивысших своих проявлениях, Тэйлор — из них двоих — сильнее как поэт" (9; р. 22).
Не присуща поэзии Герберта, как и других английских поэтов-метафизиков, та бытовая заземленность, которой окрашены многие стихотворения Тэйлора, к примеру, "Домоводство Господне" или приведенная выше "Медитация" 1.38. В связи с последней следует заметить, что ни один из этих английских поэтов, пожалуй, не дерзнул бы поставить под сомнение действия ангелов с тем, чтобы заручиться поддержкой Господа, как это делает Тэйлор. К тому же, при всей любви поэтов-метафизиков к парадоксальному сближению далеких образов, которую разделял и Тэйлор, оно используется у них по-разному. Например, Донн поражает ими воображение не в "Священных сонетах", а в своей любовной лирике, тогда как Тэйлор повсеместно использует подобные образы для характеристики предметов, находящихся на вершине его иерархического мира. Смелость образного решения в стихотворении "В сметающем потоке" чуть ли не переходит в святотатство, а его откровенность могла бы оскорбить эстетическое чувство и покоробить не одного любителя изящной словесности. Поэт сравнивает ниспосланный разгневанным Богом ливень с экскрементами, обрушивающимися с небес на головы погрязших в пороке людей. Отказываясь от традиционной для пиетистской литературы монументализации образа, Тэйлор прибегает здесь к его предельному снижению, добиваясь посредством такой гиперболизации эффекта божественного величия. В этом также ощутима близость его поэтического мира эстетике барокко.
"Приготовительных медитаций", в которых, вероятно, с наибольшей полнотой отразилось своеобразие поэтического темперамента Тэйлора. Что касается эмоционального строя "Медитаций", он определяется насыщенным драматизмом полем, возникающим между исполненной предельного внутреннего напряжения душевной борьбой и высоким религиозным идеалом, на который эта борьба постоянно ориентирована. Бурное кипение чувств дается поэтом в контрастных состояниях, достигающих крайней экзальтации и крайнего отчаяния и уничижения. Их изображение лишено полутонов, смягчающих резкость перепадов, отличается подчеркнутой дисгармоничностью, намеренным сгущением красок. Вспышки, всплески, взрывы чувства, которыми изобилуют "Медитации", как бы прорывают ткань поэтического текста, вынуждая поэта говорить о невыразимости обуревающих его чувств, которая также является одним из частых мотивов в литературе барокко.
Весь художественный строй поэзии Тэйлора говорит о самостоятельности его поэтического видения. Несмотря на его близость к традициям английской поэзии XVII в. и несомненное влияние поэтов-метафизиков на его творчество, Тэйлор безусловно не удовлетворялся положением подражателя, даже если подражание и составляло поначалу основной стимул развития литературы американских колоний. Как и творчество Анны Брэдстрит, поэзия Тэйлора представляет собой переходное явление, отражая диалектику раннего этапа формирования американской литературы и особенно ее взаимоотношений с литературой метрополии. Хотя его поэтическая индивидуальность отличается несомненным своеобразием и оригинальностью, говорить о Тэйлоре как о поэте американском можно лишь с долей условности: в том только смысле, что он стоит у истоков зарождающейся литературной традиции. *В процессе своего формирования молодая литература постепенно, через своеобразие индивидуального видения, воплощенного в тех или иных сочинениях колониальных авторов, одним из которых был Эдвард Тэйлор, обретала характерные черты. Их накопление привело со временем к тем глубинным качественным изменениям, которые позволили литературе колоний перейти в ранг национальной.
* Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, стихи приводятся в переводе автора главы.
"Сочинения ново-английских пуритан. Миссия и историческая реальность".
1 Цит. по: Daly, Robert. "Puritan Poetics" // Early American Literature. Ed. by Michael T. Gilmore. Englewood Cliffs, N. J., 1980, p. 40.
2 Ziff Larzer. Puritanism in America. N. Y., 1973, pp. 122—123, 123.
". In: The Unpublished Writings of Edward Taylor, v. 3, Edward Taylors Minor Poetry. Ed. by Thomas Marion and Virginia L. Davis. Boston, 1981, p. XII.
5 Elliott, Emory. Power and the Pulpit in Puritan New England. Princeton, N. J., 1975, p. 9 n.
6 Этот вопрос затрагивается, в частности, в таких работах, как Stanford, Donald E. Edward Taylor. Minneapolis, Univ. of Minnesota Pamphlets on American Writers, № 52, 1965, p. 28; Davis T. M. Op. cit, p. XV.
7 A Library of American Literature. Ed. by E. C. Stedman and E. M. Hutchin-son. N. Y., v. 1, 1894, p. 218.
9 Цит. по: Stanford D. Edward Taylor. Minneapolis. Univ. of Minnesota Pamphlets on American Writers, № 52, 1965, p. 17.
10 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1972, с. 80.
11 Bercovitch, Sacvan. The Puritan Origins of the American Self. New Haven, N. J., and L., 1975, pp. 16, 14.
—81.
14 Н. Грабо убедительно раскрывает связь поэзии Тэйлора с эмблематическими книгами, распространившимися в Англии с конца XVI в. Они состояли из гравюр, изображавших те или иные символы нравственного содержания в сопровождении соответствующей моралистической сентенции, а также небольшого стихотворения или прозаического текста, разъяснявших смысл изображения. Благодаря таким книгам "... эмблема как формальный полулитературный прием приобрела влияние в английской литературе". N. Grabo. Op. cit., p. 154.
15 Цит. по: George Herbert. Selected by W. H. Auden. Penguin Books, 1973, pp. 11, 10.