
СОЧИНЕНИЯ НОВО-АНГЛИЙСКИХ ПУРИТАН. МИССИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
С момента своего появления английские колонии в Новом Свете, протянувшиеся узкой, прерывистой полоской вдоль Атлантического побережья, образовали три региона, из которых самому северному, Новой Англии, суждено было сыграть исключительную роль в становлении американского сознания, культуры и государственности, особенно на ранних этапах развития. Здесь закладывались основы плодотворной, мощно проявившейся уже в девятнадцатом столетии литературной традиции, которой Америка обязана немалым числом своих шедевров.
На протяжении XVII и большей части XVIII веков колонизация Новой Англии проходила под флагом пуританства. Сюда устремлялись непримиримо настроенные сторонники реформированной церкви, подвергавшиеся на родине гонениям за свои религиозные убеждения. Пуританская идеология и этика стали основой той социальной и культурной общности, которая сложилась в Новой Англии намного раньше, чем в других регионах. Ее создание и явилось главной предпосылкой возникновения в колониях многочисленных литературных сочинений в тот период, который по общему признанию не располагал к занятиям литературой и искусством.
Это обстоятельство обратило на себя внимание, как только началось изучение колониального периода. Еще в начале XX в. У. П. Трент и Б. У. Уэллс говорили в предисловии к составленной ими антологии ранней американской прозы и поэзии о том, что Новая Англия обладала для их развития "преимуществами социального единства"1
Семь десятилетий спустя авторы предисловия к другой антологии Клинт Брукс, Роберт Пени Уоррен и Р. У. Льюис, утверждали: "... Это литературное превосходство пуритан по сравнению с другими колонистами было не случайным, скорее оно явилось результатом того факта, что только они принесли с собой на эти берега то, что необходимо для любой литературы: прочную культурную структуру, в рамках которой они могли мыслить и выражать свои мысли.
Эта структура обусловила литературные достижения пуритан, определила их тематику и продиктовала использование различных форм. Темой явилось не менее (но и не более), как отношение человека к Богу и то, каким образом мог человек лучше служить его сосудом и орудием во славу Господа"2.
Переселение в чужие, неведомые края, где люди оказались в необычайно суровых климатических условиях, постоянно испытывали нужду, страх перед неизвестностью и воинственными индейскими племенами, породило естественные трудности, с которыми не мог не считаться любой потенциальный автор. Преодоление их, казалось бы, поглощало без остатка физические и духовные силы. И однако именно в Новой Англии, где условия существования были, несомненно, неизмеримо сложнее, нежели в средних и тем более южных колониях, в начальный период, особенно в XVII в., появилось подавляющее большинство произведений, и поныне представляющих с той или иной точки зрения историко-литературный интерес.
Признание этого факта отнюдь не умаляет значения вклада других регионов в развитие американской литературной традиции, хотя подчас пристальный интерес к литературе, создававшейся в колониальный период в Новой Англии, именно так трактуется в трудах отдельных американских исследователей3 того времени.
Первые же годы существования ново-английских колоний отмечены необычайной общественной и политической активностью населения, которая дала толчок развитию общественной мысли. Со временем в ней постепенно все более отчетливо проступали собственно американские признаки и качества, хотя кровные связи со "старой родиной" еще долго определяли черты духовного облика Новой Англии. Эта изначально характерная для нее интенсивность духовной жизни стала одной из главных предпосылок формирования художественного мышления, особый склад которого неразрывно связан со сложившимся в регионе типом сознания.
Эстетические воззрения вырабатывались не на основе умозрительного усвоения и переработки эстетических теорий предшествующих эпох или современных, а непосредственно в живой повседневной практике. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что к эстетике последняя не только не имела прямого отношения, но и была откровенно враждебна к ней. Объяснение кроется в идеологии пуританства, которой принадлежала в этом процессе определяющая роль. Возросшая на доктринах кальвинизма с его крайним ригоризмом и нетерпимостью, она впитала в том числе и глубокое недоверие к искусству. Отчетливо сознавая невозможность установления желанной для них предельно жесткой регламентации в сфере духовного творчества, пуритане не признавали его самоценности. В искусстве они усматривали лишь соблазн, коварный способ уловления душ с целью отвращения их от божественных истин, поиски которых должны составлять предмет первейших забот и самый смысл существования каждого истинного христианина. Через искусство, по их твердому убеждению, в христианство проникает яд язычества.
Воплощенным торжеством языческого духа они считали католическую церковь с ее роскошеством, пышными ритуалами и великолепием, созданными не в последнюю очередь силами искусства. Восстание против погрязшего в "язычестве" Рима, предавшего забвению заветы отцов церкви и самого Господа, изобличение его пороков, очищение от них христианства и возвращение к истинам, заповеданным в Библии, составляло суть всей Реформации.
Позиция, которую занимали в этом движении пуритане, отнюдь не отличалась умеренностью. Художественное творчество, включая и литературу, в котором, согласно их воззрениям, открыто проявлялась, более того, торжествовала порочная и греховная природа человека, почиталось у них делом безнравственным. Однако обойтись без искусства, полностью исключив его из своей жизни, пуританам все же не удалось. Правда, допускалось оно ими только в том виде и тогда лишь, когда отрекалось от своей сущности, от всех притязаний на самостоятельную ценность и значимость, когда переставало быть самим собой, вынужденно принимая на себя не свойственные ему обязательства, поскольку в глазах пуритан нуждалось в "оправдании". Они находили его в полном и безоговорочном подчинении художественного творчества религии. Искусство превращалось в результате всего лишь во вспомогательное средство религиозного воспитания и распространения богословских истин. Таким образом, хотя речь шла о сфере духовной, подход пуритан к художественному творчеству в целом был чисто утилитаристским.
за пределами того, что традиционно обнимается понятием "литература", которое чаще всего выступает синонимом литературы художественной. Как и в других регионах, здесь широко представлены землепроходческие сочинения, хроники, путевые заметки, исторические и этнографические очерки, дневники, отчеты, воззвания, речи, эпистолография и т. д. Главная же роль, в соответствии с пониманием пуританами стоявших перед ними задач жизнестроительства, отводилась в Новой Англии литературе богословской, призванной просвещать умы и очищать души, приобщая их к тайнам божественного промысла. Теологическая литература также отличалась здесь большим многообразием жанров, от проповеди до богословского трактата, жизнеописаний видных церковных деятелей и людей, прославившихся благочестием и подвигами веры, толкований Священного писания, медитаций и описаний чудес. Трент и Уэллс с полным основанием назвали авторов подобных сочинений "нелитературными" людьми (1; р. XIV).
За крайне редким исключением так оно *в действительности и было. Ученые-богословы и представители колониальной администрации, проповедники, священники и юристы, торговцы и судьи — все они брались за перо не забавы ради. Внутренние установки, уходившие корнями в разделявшуюся ими идеологию ново-английского пуританства, не позволяли этим людям и помыслить о прямом обращении к литературному творчеству. Во время написания произведения каждого из этих авторов влекли какие-то конкретные, практические задачи в сопредельных с литературой областях. С точки зрения истории литературы оставленные ими сочинения представляют несомненный интерес как непосредственное отражение опыта, послужившего почвой для формирования литературы и литературных традиций, условий ее зарождения и тех духовных поисков, которые вошли в литературу одним из ее важнейших компонентов. Однако даже помимо воли и намерений автора, того сознательного усилия, которое он направлял на достижение желаемого эффекта — воздействие на читателя или слушателя, в процессе создания текста в действие вступали собственно литературные законы. Они заставляли автора искать наиболее подходящие средства для воплощения своего замысла. Поиски не ограничивались областью одной лишь стилистики с ее требованиями ясности, доходчивости, убедительности, но охватывали стиль в широком значении слова, в недрах которого складывалась особая система средств художественной выразительности, отвечавшая пуританскому сознанию, идеологии и миросозерцанию ново-английских колонистов.
Избрав своим главным инструментом слово, авторы-пуритане положили его в основу образной системы, проявив высокую чувствительность к выразительным возможностям языка. В их сочинениях это проявилось как в широком применении правил риторики и красноречия, так и в активном использовании фигуративной речи, литературных тропов и выразительных словесных образов. Более того, проблема "языка" произведения сознавалась ими с такой ясностью, что нередко выносилась на страницы их сочинений. Так, Джошуа Муди в своей публичной проповеди по случаю выборов управления колонии говорил: "Что до манеры выражения с использованием множества Метафорических Выражений и Аллюзий на Солдатское ремесло, Построения и Движения, ... я полагаю, человек может снять Мерку со своей темы, чтобы выкроить по ней свой Язык и сотворить из него нечто сообразно характеру своей Аудитории". Правомерность подобных действий Муди подкреплял ссылками на практику самого Создателя: "... такими вот привычными и знакомыми Метафорами, взятыми из тех занятий, в коих мы поднаторели, учит нас Господь в своем Слове"4.
Что до апелляции к божественному авторитету, она стала постоянной чертой сочинений ново-английских пуритан. Их насквозь идеологизированный мир — это безграничное поле действия провидения, которое есть выражение верховной воли Бога. Она выступает как мощное объединительное начало, преобразуя безмерное пространство в единое и нерасторжимое целое и точно так же соединяя в непрерывности движения другую бесконечность — бесконечность времени. В этом пространственно-временном континууме каждый предмет и каждое событие, от сколь угодно малого до сколь угодно большого, каждая судьба, отдельного ли человека или народа, в том числе и собственная, воспринимались пуританами как звенья одной цепи. Вне этого освященного волей господней контекста не может быть понят их истинный смысл, так как ничто не значимо само по себе, но лишь как акт волеизъявления Всевышнего. Преобразованное в деяние оно остается недоступно человеческому разуму не только потому, что часть его всемогущества заключена в произвольности, непредсказуемости его действия, в противном случае подрывается сама идея всемогущества, но также и потому, что явление или предмет выступают как знак, символ, отражающий взаимоотношения видимого мира с миром трансцендентным. Провиденциальность пуританского мышления, таким образом, теснейшим образом связана с его эмблвматичностью. Ключ, открывающий тайны провидения человеку, который в земной жизни имеет дело исключительно со знаками и символами,— Библия. Изучая ее, он может путем сопоставления "знаков", окружающих его в реальной жизни, с теми, что запечатлены в Библии, постичь сокровенный смысл бытия, хотя и не должен быть слишком самонадеян, поскольку воспринимает все своим ограниченным умом.
Доктрина предопределения, ставшая доминирующим элементом в пуританском мышлении, отнюдь не разрешила заложенных в нем противоречий, которые с ходом истории лишь все более обнажались. Так, вселяя оптимизм и уверенность в случае успеха, при неблагоприятном стечении обстоятельств, каких бывало немало, она подрывала надежду на благополучный исход. Любая неудача порождала в пуританской общине сомнения не только в собственных силах, но и в самой способности постичь божественный замысел, уразуметь повеления Бога, который не оставляет их в своем неусыпном бдении, постоянно и повсеместно являя им знаки своей заботы, вызывала ощущение собственного несоответствия возложенной на них роли. Кроме того, коль скоро все предопределено свыше, из сферы действенных факторов исключался случай, которому отводилась столь важная роль в концепции "фортуны" гуманистами Возрождения. Перед лицом неудачи, выступавшей знаком божьего гнева, пуританин оказывался наедине со своей порочной природой, в которой проклятие первородного греха соединялось с его личным несовершенством. Жесткий детерминизм провиденциального мышления, с одной стороны, служил подспорьем в преодолении встречающихся на пути трудностей, а в то же время, с другой — возводил препятствия, превозмочь которые удавалось лишь ценой пересмотра исходных посылок.
"Истории поселения в Плимуте" (или "О Плимутском поселении", Of Plimmoth Plantation, как озаглавил его сам автор), Уильяма Брэдфорда (William Bradford, 1590—1657). Эта книга, впервые изданная двести лет спустя после смерти своего создателя и поныне не потерявшая значения как исторический источник, соединяет в себе разнородные черты. Это и хроника исторических событий, связанных с переселением за океан группы пуритан-сепаратистов, прибывших в Америку в 1620 г. на "Мэйфлауэре", и их жизнью на американских берегах, и дневник, в отдельных разделах близкий по форме пуританской духовной автобиографии, и мемуары, и жизнеописание видных деятелей общины и церкви, и компендиум, совмещающий личные письма и документы с историческими документами разного рода (реляции, отчеты, переписка, официальные запросы и т. д.).
В числе их оказался один из важнейших документов начального этапа американской истории — знаменитое соглашение, подписанное отцами-пилигримами на борту "Мэйфлауэра". В договоре говорилось:
"Предприняв во Славу Божию и для распространения Христианства, в Честь нашего Короля и Отечества путешествие, дабы основать Первую Колонию в Северной Части Виргинии, пред Богом и друг пред другом торжественно все вместе настоящим объявляем, что мы заключаем сей Договор и Объединяемся в Гражданское и Политическое Сообщество для лучшего нашего управления и сохранения и для достижения означенных целей: и в силу настоящего (обязуемся) принимать, учреждать и издавать время от времени такие справедливые и равные Законы, Установления, Указы, Уложения и Церковные постановления, кои сочтем наиболее подходящими и полезными для общего блага Колонии и коим обещаем все должное повиновение и покорность" (2; pp. 22-23).
Положенная в основу соглашения теория ковенанта была одним из краеугольных камней пуританства, сложившегося в своих сущностных чертах еще в Англии. Согласно этой теории между Богом, с одной стороны, и верующими, с другой, заключается договор, по которому члены церкви (именовавшиеся в пуританской общине "святыми", в отличие от остальных жителей колоний, на которых действие ковенанта не распространялось) признавали Священное писание выражением воли Господа, верховным законом, обязуясь беспрекословно следовать ему, а также соблюдать церковные установления и нести свет божественной истины заблудшим. Бог также был связан обязательством, беря на себя заботу об их спасении. Тем самым в теории ковенанта, предполагавшей наличие двух договаривающихся сторон, содержалась определенная "секуляризация" божественного промысла. Церковь-государство, которое вознамерились построить на американских берегах отцы-пилигримы, сама же исподволь подрывала власть божественного авторитета. Суверенность верховной воли Создателя понималась как безграничная свобода его выбора в исполнении взятых обязательств, который был исключительно актом произвольным, ничем не обусловленным и не зависящим ни от чего, кроме его милости. Оставаясь в рамках теологии, теория ковенанта включала и социальные идеи пуританства. После переселения в Америку ее приверженцы положили эти идеи в основу социального устройства колоний Новой Англии; в дальнейшем это сыграло важную роль в развитии американской общественной мысли. На первых порах в ней трудно уловить элементы особой новизны, однако попытки перейти под влиянием новых условий от теории к действию уже создавали предпосылки движения. Демократические принципы, родившиеся в результате последующей трансформации идей, содержались в теории ковенанта в зачаточном состоянии, однако предпринявший глубокое исследование исторического наследия Новой Англии В. Л. Паррингтон отнюдь не преувеличивал, когда в своем труде "Основные течения американской мысли" утверждал, что отцами-пилигримами "... были завезены в Новую Англию два кардинальных принципа, по сути слившихся в один: принцип демократической церкви и принцип демократического государства", или что "... новым учением, к которому наощупь пришли эти первые пуритане, была ставшая впоследствии широко известной естественно-правовая теория, а конечной целью и конечным итогом их поисков более справедливого решения проблемы взаимоотношений человека и общества был принцип демократического государства, основанный на концепции политического равенства"5.
Брэдфорд живописует историю сепаратистской общины, видным членом которой он был (занимая по переезде за океан в течение 30 лет с небольшими перерывами пост губернатора колонии), начиная со времен ее образования в Англии, которую новообращенные пуритане были вынуждены покинуть из-за обрушившихся на них гонений, отправившись в поисках спасения сначала в Голландию, а затем в Америку, где вопреки ожиданиям на их долю выпало немало трудностей и испытаний. Повествование насыщено множеством деталей, сведений о частной жизни и быте колонии, зарисовками характеров и обстоятельств, описаниями исполненных драматизма эпизодов. Все это придает живость созданной им картине. Однако усилия автора направлены не просто на то, чтобы дать возможность читателю ярко представить события. За обилием бесценных с исторической точки зрения подробностей отчетливо вырисовывается второй план, организующий повествование Брэдфорда, раскрывающий его истинный смысл.
"святые" ново-английского Плимутского поселения выступают на одной арене с главными участниками мистериального действа, Богом и Дьяволом. Приобщение к схватке извечных сил добра и зла совершается благодаря их участию в деле очищения церкви от скверны, в которой она погрязла по вине "папизма", и ее возвращения к первоначальной чистоте, свободе, красоте и порядку. Каждый в отдельности и вся община совокупно преображались тем самым в орудие божественного промысла. Задача заключалась в постижении его смысла и неуклонной верности избранному пути несмотря на тяжкие невзгоды, которые следует принимать как испытание их готовности к возложенной на них провидением высокой миссии.
Как убежденный пуританин, Брэдфорд в каждом явлении видит указующий перст божий, рассматривая их как знаки, с помощью которых провидение направляет странствия людей по житейскому морю. Среди американских исследователей нет единства относительно степени зависимости повествования Брэдфорда от провиденциального истолкования истории — одни считают ее абсолютной, другие находят его подход достаточно диалектичным. Хотя сам он, конечно, никогда бы не усомнился в истинности доктрины провидения, природный здравый смысл, отсутствие склонности к фанатизму, стремление к всесторонне-объективному описанию события в противовес доктринерской иллюстративности и схематизму — позволяли Брэдфорду сохранить трезвость суждений, которой нередко недоставало многим его единомышленникам.
Это подтверждает и образ рассказчика, постепенно складывающийся при чтении книги. Автор хотя и не отказывается от назидания, неотступно следует правилу, требующему, чтобы материал говорил за себя, убеждая всей совокупностью изложенного. Сопровождающий экспозицию материала комментарий, содержащий оценку событий в свете пуританских воззрений, ложится на подготовленную почву, подкрепляя умозаключения читателя. Обстоятельные описания Брэдфорда, который несмотря на высокое положение не проявляет желания заполнить собственной персоной повествовательное пространство, а скромно остается в тени, делая, по замечанию Ф. Шаффелтона, "героем" повествования "церковь в центре гражданского государства''6, рекомендуют его как человека, умевшего взглянуть на предмет с разных сторон. Он брался за него не ради прославления собственных деяний или сведения личных счетов, но затем, чтобы поведать истину. Если религиозные убеждения окрашивали ее в тона пуританской ортодоксии, Брэдфорду все же удавалось избежать соблазна подменить живой опыт пригодной на все случаи формулой. В результате в его интерпретации событий сохранялась многозначность, завидно выделяющая сочинения Брэдфорда среди аналогичных произведений его современников.
Это нетрудно обнаружить при сопоставлении хроники Плимутского поселения, к примеру, с сочинениями Джона Уинтропа (John Winthrop, 1588—1649), одного из крупнейших деятелей Новой Англии ранне-пуританского периода. Подобно Брэдфорду, Уинтроп был лидером своей общины, носившей название колонии Массачусетского залива и состоявшей из небольших и совсем маленьких поселений, группировавшихся вокруг Бостона, и так же на протяжении многих лет был ее губернатором. Оценивая его деятельность на этом посту в своем труде Magnalia Christi Americana (1702), подводившем в некотором роде итог существования ново-англййских колоний в семнадцатом столетии, Коттон Мэзер ставил заслуги Уинтропа так высоко, что сложил во славу его настоящий панегирик. По своим достоинствам, считает Мэзер, он не уступает "великим мужам Греции и Рима, увековеченным пером Плутарха", однако совершенно лишен их недостатков, являясь к тому же образцовым христианином.
"Пусть гордится Греция своим терпеливым Ликургом,— восклицает он,— законодателем, чье усердие, умеренность, стойкость и мудрость послужили основой прочного и славного государства; пусть Рим твердит о своем благочестивом Нуме, законодателе, благодаря которому знаменитейшее государство узрело мир, восторжествовавший над потушенною войною с жестокими грабежами, и убийство сменилось более мирными обрядами его религии. Наша Новая Англия будет твердить о своем Джоне Уинтропе и гордиться им, законодателем, столь же терпеливым, как Ликург, но не допустившим ни одного из его преступных беспорядков; столь же благочестивым, как Нума, <...> но не подверженным ни одному из его языческих безумств"7.
Однако даже этого показалось Коттону Мэзеру мало, и он в дальнейшем упоминает много других прославленных деятелей античного мира, например, Катона или великих полководцев Александра Македонского, Ганнибала и Цезаря, чью военную славу Уинтроп затмил победой над собой. Но и этим, считал он, было невозможно измерить подлинное величие первого массачу-сетского губернатора. Основываясь на системе аналогий, характерной для мышления ново-английских пуритан на всем протяжении XVII в., Мэзер представляет Уинтропа американским Моисеем, который, подобно библейскому патриарху, избавил свой народ от тяжкого плена и вывел из тьмы, открыв ему свет божественной истины.
Далеко не все исследователи разделяли в дальнейшем эту восторженную оценку Уинтропа. Для одних он "образованный человек, "воспитанный среди книг и ученых мужей", "кроткий и благожелательный по натуре", из числа тех "выдающихся пуританских деятелей... у которых суровая, основанная на Ветхом Завете мораль пуритан под воздействием общей культуры приобрела более гуманный характер", "на редкость привлекательная личность" (5; с. 81,84), "самый культурный и философски настроенный из первых поселенцев Новой Англии", исполненный "достоинства и беспристрастия", наделенный "благородным и ученым умом, открытым высокому идеализму" (1; pp. 90, 91).
У других не находится для Уинтропа ни одного доброго слова. Поборник авторитарной власти в политике и суровой ортодоксии в религии, он предстает как воплощение "пуританского идеала в его самой исторически сильной и человечески непривлекательной форме". Его отличает "душевный холод" и "радикальная неспособность усомниться в себе"8, "злосчастная и... чрезмерная праведность" и злорадство, проявляющееся, в частности, в том, как он рассказывал о "бедах, постигших тех, кто оставил (колонию — М. К.) и критически высказывался о святых (Массачусетского — М. К.) залива"9.

Портрет Джона Уинтропа. Написан в Англии до 1630- г.
Разногласия в оценках, отражающие противоречивость и сложность натуры Уинтропа, связаны с характером его воззрений, прямым образом определявших его деятельность. О его религиозных и политических взглядах можно составить представление не по косвенным свидетельствам, а по сохранившимся, к счастью, многочисленным документам, главным образом написанным им самим. В них Уинтроп, юрист по образованию, по складу своего мышления обладавший недюжинной способностью четко формулировать идеи и явной склонностью к систематизации, не просто излагал свою точку зрения по тому или иному вопросу, но тщательно обосновывал ее, подкрепляя общие положения всесторонним рассмотрением исходных посылок и вытекающих из них выводов. Его сочинения дают возможность с наибольшей полнотой судить о социальных концепциях раннего новоанглийского пуританства, произрастающих из его теологических доктрин, а также о наличии в нем различных по направлению тенденций. Одну из них, условно говоря "аристократическую", элитарную в наиболее законченном виде воплощал собой Уинтроп.
Среди первых колонистов, решивших пересечь океан, Уинтроп составлял заметное исключение. Он принадлежал к зажиточному, хотя и не древнему роду, владевшему поместьем в Саффолке и занимавшему прочное положение, основу которого заложил его дед, лондонский торговец сукном, купивший монастырские земли, конфискованные по указу Генриха VIII. Обучаясь в Кембридже, Уинтроп познакомился с учением пуритан, пережил духовное обращение и связал свою жизнь с пуританской общиной. Поначалу он не только не выражал намерения бежать из Англии (в этом, правда, не было необходимости — лично Уинтроп никогда не подвергался гонениям), но и высказывал убеждение, что долг истинного пуританина бороться за свою веру. Этим, вероятно, обусловлено и его отношение к сепаратистам, в котором даже и после переезда в Америку сквозила предвзятость. Человек, утверждал он, "не должен стремиться к состоянию, удаленному от мира и свободному от соблазнов, но должен знать, что жизнь, зело преисполненная испытаний и соблазнов, наиболее сладостна и окажется наиболее безопасной. Ибо для таких испытаний, что выпадают нам касательно нашего призвания, лучше вооружиться и вынести их, нежели избегать и уклоняться от них" (9; р. 7). Его точка зрения изменилась в конце 20-х годов XVII в., когда между королем и Парламентом начался открытый конфликт. Считая неизбежным дальнейшее ухудшение положения в Англии, Уинтроп, ставший в 1629 г. членом Компании Массачусетского залива, принимает решение покинуть родину. Весьма показательно, что он сохранил в качестве обоснования переезда в Америку и тезис о необходимости борьбы с грехом. По его убеждению, создание на американских берегах реформированной на основах кальвинистской доктрины церкви должно было послужить преградой для распространения там царства Сатаны, а сама она — стать аванпостом Христова учения.
Свое понимание задач, стоявших перед общиной, Уинтроп изложил в проповеди "Образец христианского милосердия" ("Christian Charitie. A Model Hereof, 1630), прочитанной на борту отплывшей в Америку "Арбеллы". В ней с предельной ясностью выражено осознание пуританами собственной исключительности, избранничества, предуготованности для высшей цели, которые превращали их переселение в Новую Англию в миссию, порученную им самим Богом. В заключение своей речи Уинтроп проводил прямую параллель между отправляющимися в Америку пуританами и народом Израиля, который Моисей вывел из тьмы египетского плена. Эта библейская аналогия, прочно вошедшая в ново-английскую религиозную литературу и историографию, была призвана подчеркнуть поистине всемирное значение предпринимаемого крошечной группой переселенцев путешествия. Прецедент, взятый из священной истории, не только предсказывал благополучное завершение их миссии, но и самое ее вводил в сакральный контекст.
"... И посему не должны мы удовольствоваться принятыми обыкновенно средствами,— убеждал своих спутников Уинтроп.— Что бы мы ни совершили или ни должны были совершить, когда жили в Англии, то же самое должны мы совершить там, куда направляемся, и более того. <...> Так обстоит дело между нами и Богом: мы вступаем с ним в Договор относительно этой работы; мы взяли на себя Обязательство, и Господь позволил нам составить наши собственные Установления. <...> Так вот, ежели Господу угодно будет услышать нас и он в мире доставит нас в то место, куда мы стремимся, тогда, значит, он подтвердил сей Договор и скрепил наше Обязательство и будет ждать от нас строгого исполнения включенных в него Установлений" (2; р. 26).
В проповеди Уинтропа немало моментов, напоминающих знаменитое "Мэйфлауэрское соглашение". Это прежде всего идея ковенанта, договора между общиной и Богом, требующего скрепления обеими сторонами. Миссия пуритан определилась как служение Богу, а результатом ее должно было стать создание "Града на Горе" (2; р. 27). Если же она будет забыта общиной в погоне за мирскими заботами, на их колонию, напоминал Уинтроп, обрушится великий гнев божий.
Так же, как и Брэдфорд, Уинтроп убежден, что усилия колонистов должны быть направлены на достижение общего блага. В своем представлении о нем он исходит из понимания общины как органического тела, подобного человеческому, в котором органы и части не могут существовать независимо друг от друга и от целого. Подобно тому, как организм во всей его целостности выступает залогом сохранения и успешного функционирования отдельных органов, общее благо обеспечивает процветание каждого из членов общины: "В таких случаях, как этот, забота об общественном, которое соединяет нас не только в делах совести, но и просто в Гражданском устройстве, должна перевешивать все личные интересы, ибо не могут существовать отдельные поместья, где рухнуло общественное,— это правило верное" (2; р. 26).
Это не означает, что Уинтроп разделял идеи ранне-христианского коммунизма, подхваченные некоторыми протестантскими сектами в Англии в период подготовки революции. Его социальные воззрения, отчетливо прозвучавшие в проповеди, отражали настроения имущих классов, вступая в противоречие с теми направлениями в пуританстве, которые выражали интересы демократических слоев населения. С ними Уинтроп впоследствии порой оказывался в прямой конфронтации. Он считал, что мир извечно разделен на богатых и бедных и что люди не должны ставить себе целью изменить существующее положение вещей, так как оно определено не человеческим, а божественным законом. В доказательство обоснованности социального и имущественного неравенства Уинтроп ссылается на авторитет Бога, который положил его в основание человеческого общества: "Всемогущий Господь в великой мудрости своего святейшего промысла положил такие Условия человеческого существования, чтобы во все времена одни были богаты, а другие бедны; одни занимали высокое и видное положение благодаря власти и титулам, другие же пребывали в убожестве и подчинении" (2; р. 25).
Установлено это имущественное разделение было, по мнению Уинтропа, как для доказательства всемогущества божественной воли, так и в интересах самого человечества, которое может таким образом проявить свое многообразие. Целесообразность сохранения подобного положения он обосновывает вдобавок тем, что оно предоставляет поле деятельности божественному духу, который берет на себя роль своего рода посредника между людьми разного состояния, предотвращая социальные взрывы: он будет влиять на "нечестивых, сдерживая и умеряя их, дабы богатые и могущественные не пожирали бедных, ни бедные и презренные не поднялись бы противу тех, кто стоит над ними, и не сбросили бы ярма...". И, наконец, важным аргументом в пользу обретшего божественную санкцию неравенства людей Уинтроп считал то, что в таких условиях ощутимее станет их потребность друг в друге, и потому людей еще теснее свяжут узы братской, христианской любви. "Из этого с очевидностью следует,— заключает Уинтроп,— что ни один человек не создан достойнее и богаче другого и т. п. из какого-то особого исключительного почтения к нему самому, но лишь во славу своего создателя и общего блага самого создания — человека" (1; р. 25).
себя в вопросах политики, что особенно наглядно выявилось в спорах о магистратской власти. В речи, которую Уинтроп произнес в суде, когда его обвинили в превышении административных полномочий, он выдвинул свою элитарную в сущности концепцию власти, во многих положениях восходящую к иерархической системе Средневековья.
Как опытный политик и человек проницательного ума, Уинтроп сразу же определил, что "вопросы, которые взволновали страну, касаются власти магистратов и свободы народа". Рассматривая первую, он исходит, с одной стороны, из божественной природы власти, а с другой, из теории естественного суверенитета народа. Однако, обладая суверенитетом, народ может осуществлять свою власть, лишь передоверяя ее избранным им представителям. С момента их избрания на их власть переходит и божественная санкция. "Вы сами призвали нас на эту должность, и, будучи призваны вами,— утверждает Уинтроп,— мы получаем власть нашу от Бога, посредством установления, такого, на коем явственно запечатлен образ Божий, неуважение к коему и нарушение коего были примерно наказаны божественной карой" (8; р. 69).
В силу несовершенства человеческой природы, доказывает Уинтроп, магистраты могут совершать ошибки, но предъявлять им за это обвинения можно не более, чем тем, кто их избрал,— последним остается пожинать плоды собственной недальновидности. Осуждать магистратов можно лишь за нарушение клятвы преданности возложенному на них делу. Таким образом, пытаясь увязать теорию народовластия с концепцией суверенной власти магистратов, Уинтроп явно склоняется в пользу авторитарной системы.
Что до человеческой свободы, по его мнению, необходимо различать два ее вида, несовместимых между собой. Один дан людям в естественном состоянии, другой присущ человеческому обществу. Пуританская доктрина заставляла Уинтропа с подозрением относиться ко всему естественному, поскольку в естестве и коренится порочная человеческая природа, столь подверженная влиянию дьявола. "Первой,— говорит Уинтроп,— человек наделен наравне с животными и прочими тварями. Обладая ею, человек, сообщаясь только с человеком, волен делать, что ему заблагорассудится; эта свобода — творить как добро, так и зло. Эта свобода несовместима и непримирима с властью и не терпит ни малейшего стеснения со стороны самой справедливой власти. Пользуясь такой свободой и сохраняя ее, люди все более погрязают во зле и становятся со временем хуже диких зверей..." (8; pp. 69—70).
Как явствует из его рассуждений, "порочная естественная свобода" (8; р. 70) преисполнена, по мысли Уинтропа, опасностей, главной из которых была угроза "простой демократии". Такая форма демократии была для него совершенно неприемлема. Обосновывая свое отрицательное отношение к ней, Уинтроп недвусмысленно заявлял: "Среди наиболее цивилизованных стран демократию почитают наихудшей и самой низкой из всех форм правления, вследствии чего авторы наделяли ее бранными эпитетами, как то: "Bellua multoru capitu*, чудище и т. д. При этом, как свидетельствует история, демократическое правление всегда было самым недолговечным и беспокойным" (5; с. 91—92).
"гражданскую, или федеральную", которую можно назвать также "моральной". В отличие от первой, она существует согласно "... ковенанту между Богом и человеком в законе моральном, и политическим ковенантам и уложениям между самими людьми. Эта свобода есть прямая цель и предмет опеки власти и не может существовать помимо нее; и эта свобода есть свобода творить только добро, вершить справедливость и поступать по чести. <...> Эта свобода осуществляется и поддерживается посредством подчинения власти..." (8; р. 70).
Стремясь сделать идею подчинения более убедительной и одновременно более привлекательной (особенно ввиду явного недовольства поселенцев институтом магистратской власти и возникших в связи с этим волнений), Уинтроп, обращавшийся к религиозной общине, ссылается на свободу, которую обретают верующие и сама церковь, подчиняясь Христу. Апеллируя к более широкому человеческому опыту, он уподобляет ее также супружескому союзу: "Собственным своим выбором женщина определяет такого-то человека себе в мужья, но, будучи избран, он есть ее господин, а она должна подчиниться ему; и верная жена почитает свое подчинение честью и свободою своею и не помыслит свое положение безопасным и свободным, кроме как подчинившись власти мужа своего" (8; р. 70).
Уловив угрозу перемен, Уинтроп всеми силами старался предотвратить их, не допустить, чтобы хоть часть привилегий, которыми пользовались сильные мира сего, перешла к тем, чьим уделом было "убожество и подчинение". Он делал это и как авторитарный правитель, и как идеолог, давший теоретическое обоснование автократии в ее ново-английском варианте. Видный американский исследователь Перри Миллер выделяет глубинный антидемократизм/ как одну из важнейших черт социальных взглядов Уинтропа: "Словно сверхъестественным образом почувствовав, что может значить Америка для простого люда, Уинтроп принял меры, чтобы напрочь выбить у них из головы представление о том, что в пустыне бедные и убогие когда-либо достигнут такого самосовершенства, что превзойдут в достоинстве богатых и знатных"10.
Подобная ситуация была для Уинтропа просто немыслима. Признание ее возможности означало бы полное крушение всей его философской системы, поскольку требовало отказаться от представления о непогрешимости божественных законов, заложивших основы человеческого общежития. Недаром, обосновывая свое неприятие "простой демократии", Уинтроп в качестве одного из главных аргументов приводил то, что о ней ничего не сказано в Писании, что "... такой (формы — М. К.) Правления не существовало в Израиле" (9; р. 25).
Вопрос о том, насколько апелляция к Библии, чей авторитет оставался для Уинтропа непререкаемым, превращала его в основоположника теократии, остается спорным. Ряд исследователей находит подобные утверждения беспочвенными, тем более, что как губернатор колонии он действовал весьма решительно, ограничивая власть (т. е. вмешательство в гражданские дела) служителей церкви. Другие придерживаются прямо противоположного мнения. Несомненно правы те, кто отмечает сращение политических и теологических взглядов в системе мышления Уинтропа.
"Его интеллектуальная система,— пишет в своем исследовании, посвященном истории идей и мифов Америки, Л. Баритц,— была политической теологией; ее целью была христианизация государства" (9; р. 13). Это заключение нуждается, однако, в уточнении: христианизация может пониматься по-разному. Для Уинтропа она означала не приведение государственных институтов в соответствие с требованиями христианской любви и милосердия, утверждение не духа кротости и нестяжания, но верховного авторитета церкви, которой должны быть безраздельно подчинены все сферы человеческого существования.
Если Уинтроп и не был главным теоретиком теократии — можно даже согласиться, что он не был сторонником самой этой идеи (т. е. не считал, что верховная власть в государстве должна принадлежать священнослужителям) — объективно, и как должностное лицо, и как автор, чьи сочинения имели влияние на общественное мнение, он содействовал утверждению теократии в Массачусетсе и по всей Новой Англии. В частности, это проявилось в искоренении религиозного инакомыслия, которое проводилось самым безжалостным методом. Антидемократизм Уинтропа в политике естественным образом соединялся с приверженностью ортодоксии в религии. Он не мог принять радикальных с точки зрения принятой теологической доктрины позиций Роджера Уильямса и Анны Хатчинсон, находивших все больше последователей в Массачусетсе. Он справедливо усматривал в их учениях угрозу для существующих властных структур, прочность которых зиждется на непререкаемом господстве обязательной для всех членов общины единой теологической концепции мира. Защищая устои этого общества, Уинтроп добился их изгнания, несмотря на проповедь "братской любви", которую он провозгласил основой идеального пуританского града.
Жестокие меры, принятые против Хатчинсон и Уильямса за их отход от санкционированной властями единой доктрины, отнюдь не были исключением. Страницы дневника Уинтропа, который он вел с 1630 по 1647 г. — впоследствии при публикации он получил название "История Новой Англии" (The History of New England),— заполняют, среди прочего, многочисленные сообщения о штрафах, телесных наказаниях, казнях и изгнании, которым подвергались те, кто отступал от единственно дозволенной точки зрения, а также представители других протестантских сект, особенно квакеры. "Новый Иерусалим", который рисовался коллективному воображению пуритан, возводился на крови, и Уинтроп, облеченный властью первого лица в колонии, имел к этому самое прямое отношение.
Дневник Уинтропа интересен не только как документ социальной и политической истории Новой Англии. В нем в самой непосредственной форме запечатлен образ пуританского мышления, его природа. Быть может, наиболее бросается в глаза современному читателю его эмблематичность, основанная на признании двойственности всего мира, в котором за внешней, зримой оболочкой стоит иной, знаковый, трансцендентный смысл. В силу этого предметы, явления, события открываются с точки зрения истинного пуританина, каким был Уинтроп, не в своей непосредственной форме и взаимосвязи, а во взаимосвязи смыслов, призванных донести до верующего волю Господа. Любое происшествие становилось "посланием" или "сообщением" человеку от Бога, иначе говоря, своего рода "текстом".
Подобный способ восприятия действительности известен издревле — у различных народов с незапамятных времен мы встречаем, например, истолкование особых явлений природы: затмений, землетрясений, наводнений, засух и пр.— как "знамений". Для того, чтобы пуританину увидеть перст божий, исключительных условий не требовалось. Вся реальность была знаком, являла отношение Бога к человеку, общине, человечеству. Надо было только уметь ее читать. Уинтроп читал повседневную действительность *ак заядлый книгочей, не пропуская строк. Он не сомневался, что прерогатива выбора того способа, каким передается сообщение, целиком принадлежит Богу, и потому с особым тщанием всматривался в обыденное течение жизни. Истолкование ее в знаковой системе в конечном счете носило бинарный характер — любое из происходящих событий могло означать только либо благорасположение божие, либо, напротив, осуждение. Так, божия милость была явлена чудесным спасением двух девочек из семейства Уинтропов, ощипывавших кур, сидя у дома на бревнах, которые мгновенно обрушились, едва они встали, услышав, что их зовут. Напротив, гибель мальчика безоговорочно толкуется Уинтропом как наказание родителям, "чрезмерно" любившим утонувшего малыша, что было в его глазах нарушением пуританской этики. Рассказывая о всевозможных житейских поисшестви -ях, Уинтроп, судя по всему, нисколько не смушался тем, что для своего волеизъявления Бог мог воспользоваться весьма малозначащими событиями. Для него, по всей вероятности, наибольшей значимости была преисполнена проявлявшаяся таким образом мощь божественного разума, выражению которого, в отличие от человеческого, не может препятствовать столь ничтожное обстоятельство, как кажущееся несоответствие оболочки содержанию высказывания.
дополнениями. Интерес американцев к своему прошлому в XIX в. неизменно возрастал, и публикация сочинений, написанных в колониальный период, позволяла и удовлетворять, и еще больше подогревать его. На волне этого интереса в 1853 г. вновь был издан дневник Уинтропа, на три года опередив первую публикацию книги Брэдфорда "О Плимутском поселении". Они и поныне остаются бесценным источником сведений о жизни Новой Англии в первые десятилетия ее существования, помогая воссоздать духовный облик пуритан, их поиски в деле строительства священного града.
На этом пути их опекало немало пастырей. Одни, как Брэдфорд и Уинтроп, были для этого снаряжены властью мирской, другие — властью духовной. Среди тех, кто представлял последнюю, был Томас Хукер (Thomas Hooker, 1586—1647). Подобно другим первым переселенцам, он пережил религиозное обращение в Англии, хотя, по-видимому, покидать ее поначалу не собирался; образование получил в Кембридже, где он выбрал колледж откровенно пуританского направления. Проповедь пуританства как духовного учения стала жизненным призванием Хукера. Но оно приходилось по вкусу не всем его прихожанам и коллегам. Последовали протесты, жалобы и требования убрать его из прихода, запретить проводить богослужения и читать проповеди. Хукер настаивал на необходимости полного очищения церкви, доказывая, что в англиканстве содержалось немало уступок "идолопоклонству", т. е. католицизму, и грозил божьим возмездием тем, кто преследует приверженцев "истинной" церкви, подразумевая архиепископа Лода и самого английского короля. Начались гонения. Хукер скрывается, переезжая с места на место, нигде не оставаясь подолгу, продолжая тайно проповедовать в духе непримиримого пуританства. Преследования вынудили Хукера в конце концов переселиться в 1633 г. в Америку, тем более, что там уже было немало его единомышленников, и те, с кем он был знаком еще по Кембриджу, возглавляли в Новой Англии церкви или в скором времени должны были туда переехать, чтобы их возглавить.

Дом Томаса Хукера в Хартфорде.
Судя по количеству публикаций его книг в Лондоне, Хукер пользовался в Англии большой известностью. Продолжали они выходить и после его переезда за океан. По свидетельству исследователей, только за 1637 и 1638 годы в Лондоне было выпущено 14 его книг (больших и маленьких), скорее всего даже без ведома автора. Это были публикации его проповедей, отчасти печатавшиеся по записям слушателей. В Новой Англии, куда переехал Хукер, проповедь стала ведущим жанром духовной литературы. Здесь его талант проповедника реализовался в полной мере — он был признан одним из трех великих проповедников (два других — это Джон Коттон и Томас Шепард), а некоторые безоговорочно отдают ему пальму первенства.
Содержание проповедей Хукера определялось догматами пуританства. Однако даже единомышленникам и единоверцам свойственно выделять в том учении, которому они следуют, те моменты, которые представляются наиболее значительными с их точки зрения, по-своему расставлять акценты. Хукер сосредоточил внимание на подготовке души к восприятию божественной благодати. Это длительный процесс, включающий несколько стадий. Последовательная смена состояний, от преодоления греховности через смирение до приобщения благодати и прославления, требует от проповедника немалого искусства убеждения. Не в последнюю очередь оно зависит от его собственной искренности и веры в то, в чем он стремится убедить других. Этого достаточно для хорошего проповедника. Хукер был проповедником блестящим. Его проповеди ничего общего не имеют с унылой дидактикой, уже через несколько минут нагоняющей на слушателя сон или отвращение. В них обращает на себя внимание богатство приемов воздействия на аудиторию. Это и точная психологическая нюансировка как отдельных пассажей, так и целого — от запугивания божьими карами и адским пламенем во время Страшного суда, настоятельных просьб и увещеваний до чистой радости и восторга души, сподобившейся милости. Это и пластическая выразительность образов, которыми насыщен его текст. Это и неожиданная яркость художественного языка с широким диапазоном иносказания, метафорики и символики, изобилующего литературными тропами, всякий раз нацеленными на достижение особого художественного эффекта. И эмоциональная напряженность, передающая душевное состояние говорящего, сообщающая высказыванию повышенной драматизм.
он и его слушатели. Помимо этой общей для проповеди как жанра актуализации библейского текста, он использует множество других приемов, стараясь донести до слушателей свою мысль так, чтобы на нее отозвалась душа каждого. Хукер был убежден в том, что вера должна быть деятельной, что путь к Богу — это нескончаемые поиски не знающей успокоения души, это неустанный труд самосовершенствования, приближающий к постижению открывшейся истины. Одно из его сочинений так и называется "Активность веры, или Подражание Аврааму" (The Activity of Faith, or Abraham's Imitators, изд. 1651). Он настаивал, отмечает современный американский исследователь С. Буш, что "истинно взыскующий благодати не даст покоя ни себе, ни Богу, покуда не будет уверен в ней" (что, по мысли Хукера, невозможно до самого последнего мгновения). "Подчеркнутое выделение этого, вместе с реалистическим признанием как реальной власти зла и порока в этом мире, так и верховной власти Бога в решении духовной судьбы человека, создавало динамическое напряжение в его произведениях между его ощущением того, что должно быть, и сознанием того, что есть. Он учил свои конгрегации, что это напряжение — факт постоянный, с которым человек должен жить и бороться, добиваясь разрешения" (6; р. 162)..
К примеру, пытаясь пробудить в слушателях активность духовных поисков, Хукер убеждает их в необходимости увидеть грех в "присущем ему цвете и соответствующей окраске". Он показывает действие защитных психологических механизмов, не позволяющих грешникам увидеть свои пороки в истинном свете. Поначалу человек преображается в такого "обычного" грешника, убеждающего себя, что он ничуть не хуже других. "Все мы грешники, это отсутствие у меня крепости, я ничего не могу с этим поделать; моя слабость, я не могу избавиться от нес. Никто не живет без проступков и прегрешений; даже у лучших есть недостатки,— "Немало вещей, в коих мы виновны перед всеми"11.
В миниатюрном портрете, который создает Хукер буквально в нескольких строках, выпукло представлен образ грешника, заслоняющегося от самосознания привычными ссылками на окружающих. В его словах не только не слышно раскаяния, но и по сути оправдывается греховность, нарушение нравственной нормы, выдвинутой в качестве идеала духовного самосовершенствования человека. В этом небольшом отрывке отчетливо звучат интонации самого произносившего проповедь Хукера, свидетельствующие об использовании не только драматизма как средства, повышающего эффективность воздействия текста, но и чисто театральных приемов. Хукер-проповедник на какое-то мгновение становится лицедеем, представляющим маску персонажа, которую он, осмеивая ее, предлагает верующим сбросить ради постижения истины.
Драматические и театральные приемы у Хукера отличаются большим разнообразием. Не ограничиваясь созданием подобных мини-портретов персонажей, он нередко включает в текст их диалоги друг с другом или с Богом, а порой развертывает целые драматические эпизоды, в которых сам он должен моментально преображаться то в одного, то в другого, подобно тому, как это происходит в театре одного актера. Ярким примером может служить сцена "Грешник при дворе Короля" из книги "Прививка душ на природную оливу" (The Soules Implantation into the Natural Olive), вышедшей в Лондоне в 1637 г. и в дополненном издании в 1640 г. Состояние души Хукер уподобляет состоянию преступника, осужденного на казнь и готового уже взойти на плаху, которому в последний момент сообщают, что если он явится во дворец, король, быть может, помилует его. Хукер не довольствуется простым сравнением или даже описанием, а разворачивает довольно большую сцену, в которой кроме Грешника принимает участие Король и придворные.
"Так вот, говорю, обстоят дела у бедного грешника; его доставляют ко дворцу и, пребывая там, он спрашивает каждого, кто выходит:
— Не слышали ли вы, чтобы Король говорил обо мне? — и — Что вы думаете о моем деле?
Наконец один из постельничих говорит ему:
— Король слышал, что ты немало преисполнен смирения и искренне желаешь его милости; тебе будет от него сообщение в недолгом времени.
Наконец сам Король выглянул из окна и говорит:
— Это Предатель?
— Да, это тот, кто, преисполненный смирения, ищет вашего помилования.
И "воскликнул тогда Король и сказал:
— Прощение ему подтверждается и будет вот-вот доставлено,— и тогда Король улыбнулся ему. О! тогда сердце взыграло у него в груди и он говорит:
— Господь сохрани вашу милость! Никогда, думаю, не было на свете столь милосердного Государя!"12.
Очевидно, что эпизод носит аллегорический характер и призван показать состояние души грешника в момент ее предстояния перед Господом. Хукер, призывавший прихожан и всех верующих не оставлять деятельного попечительства о ее будущей судьбе, стремился убедить этой сценой, что раскаяние и смирение даже в последний момент могут принести спасение. Не желая оперировать абстракциями, которые, по его мнению, не могут дойти до сердца и родить в нем живой отклик, он переводит отвлеченную ситуацию в сферу отношений, доступных пониманию его слушателей и читателей. Показательно, что каждое действующее лицо в этой небольшой сцене наделено определенной характеристикой и при том все они созданы исключительно посредством их речи, иначе говоря, средствами драматического письма. Это, разумеется, не характеры в подлинном значении слова, а именно характеристики, данные участникам сцены применительно к ситуации и занимаемому в ней положению: для охваченного страхом и беспокойством грешника характерны тревожные и жалобно-просительные интонации, у короля подчеркнуто величие и могущество, позволяющее ему распоряжаться жизнью и смертью, царедворцы — посредники между ними — вальяжны и непроницаемы. Сцены, подобные этой, встречающиеся во многих сочинениях Хукера и других пуританских авторов, подтверждают справедливость высказыванного рядом исследователей мнения, что в Новой Англии, где театр находился под религиозным запретом, церковь была также и театром, хотя пуритане полностью отказались от театральности обрядов богослужения, столь характерных для католичества.
— не случайные находки автора. В них просматривается то воскрешение традиций позднего Средневековья, которое отличает культуру ново-английского пуританства в целом. По наблюдению Й. Хейзинги, основная особенность художественного мышления позднего Средневековья — "чрезмерно визуальный характер. <...> ... необузданная разработка деталей". Подобно французским и нидерландским писателям и художникам XV в., творчество которых рассматривается в "Осени Средневековья", Хукер, если воспользоваться словами историка, мыслит "в зрительных представлениях"13. Они реализуются у Хукера в развитой системе сравнений между опытом исканий в сфере духа — опять-таки чистой абстракцией — и житейским опытом. Поясняя свою мысль о том, что люди не видят подлинного лица греха, поскольку рассматривают грех не в себе, а в другом ("мы не берем своих собственных пороков и не рассматриваем их мерзость, когда предстают они, обнажая свою природу"; 11; р. 153), он сопоставляет опыт путешественника, повидавшего мир, но и претерпевшего множество злоключений, с ощущениями того, кто "... сидит у камина и с радостью читает рассказ о них в книге...". Впечатления путешественника — первооснова. Он сам пережил "... крайний холод и жгучий зной, видел великолепие и красоту одних (стран — М. К.), опустошенность и убожество других — он участвовал в войнах и видел разрушение и опустошение, произведенные там...". Впечатления читающего — отраженный свет. Так же и в душе грешника: "Один обозрел пределы всего своего пути, изучил расположение собственного сердца и обследовал все повороты и петляния своих дорог". Он знает, как грех "нарушил его покой и мир, подорвал и опустошил самые принципы разума, природы и нравственности, так что он стал ужасен самому себе". Отличие от другого, прочитавшего или услышавшего о мытарствах души, восклицает Хукер, "необычайно велико! Один видит историю греха, другой — его природу; один знает сообщение о грехе, как он воспроизведен и запечатлен, другой — его яд... Одно дело видеть болезнь в книге или (ином — М. К.) человеческом теле, другое — обнаружить и почувствовать ее человеку в собственном теле. Там — описание ее, здесь — ее злокачественность и отрава" (11; р. 154).
Сама жизнь, какой она представлена в повседневном опыте, хорошо знакомом его пастве, становится для Хукера бездонным кладезем сравнений, говорящих о его наблюдательности, точности, силе воображения. Любая его проповедь может служить тому примером. Так, поясняя, отчего столь неуспешна длительная работа священников по обращению заблудших душ к Господу, он прибегает не столько к традиционным в религиозной литературе аргументам относительно происков дьявола, а приводит психологические и житейские обоснования. Люди "слабы сердцем". Где, вопрошает Хукер,— "это особое и отважное приложение истины к человеческим душам и сознанию?" И в ответ с иронией восклицает: "Увы, что за прикрытия у них! Друзья — им нельзя доставлять неприятностей; великие люди — они боятся, что те будут оскорблены" (12; р. 190). А недостаток настойчивости у священников иллюстрирует сравнением с человеком, посылающим к кому-то с поручением ребенка, которого любой ответ слуги легко собьет с толку, и он уйдет ни с чем, не исполнив поручения.
Говоря о муках, ожидающих душу грешника после смерти, Хукер точно так же не довольствуется простым напоминанием о грозном и гневном Боге пуритан, ибо "... мучение дьяволами, и наказания проклятых в аду, и все казни, обрушиваемые на порочных на земле, исходят из праведного и справедливого возмездия Господа, и исполнение оного Он признает собственным своим деянием" (11; р. 164). Но помимо декларации этого общего для пуританской — и всей христианской доктрины — положения, Хукер создает пластические образы божьего гнева. Бог преследует грешников "самыми чудовищными казнями" (11; р. 163), посылает за их душами тюремщика, который бросит их в адское пламя; "в своем грозном возмущении" Бог "досаждает (грешнику — М. К.) и напускает на него совесть, чтобы следовала за ним и травила его, приговаривая: "Вот он, твой грех, и Ад тебе удел, и в Ад ты и попадешь". Часто эти сопоставления взяты из житейского обихода. Поясняя идею предызбранности душ к спасению, Хукер сравнивает отбор, производимый Богом, с тем, как отбирает мастер плотничьего дела материал для строительства, отбрасывая треснувшие или суковатые бревна, которые можно только сжечь. Такая же участь ждет и "... надтреснутые сердца и упрямые души, как их ни правь соответственно Слову, (они — М. К.) не поддаются обработке..." и "годны только в огонь" (12; pp. 193, 191).
Подчас Хукер проявляет подлинную художническую смелость, дерзко сопрягая в этих сопоставлениях высокое и низкое, которые идеологически и эстетически, в соответствии с нормами его времени, не должны были совмещаться. Описывая воздействие зла на душу, он прибегает к сравнению его с дурной пищей, поступающей в слабый желудок, не только не смущаясь явной фи-зиологичностью, но используя ее для усиления эффекта: "Это-то безнадежное злокачественное расстройство желудка должно обратить пищу и все вкушаемое нами в болезни, лучшие снадобья, живительные и предохраняющие,— в яд, так что то, что резонно предназначено для питания человека, должно убить его". Подобно этому и сердце грешника "столь слабеет, что ни само не может помочь себе, ни прибегнуть к помощи врача, следом наступают безнадежные болезни и распад целого, чего резонно и следует ожидать", тогда как при здоровом желудке, "коли случится легкая неумеренность в пище или расстройство, он в скором времени с неприязнью отвергнет это и быстро облегчится" (11; pp. 162, 163). Не меньшей смелостью отмечено сравнение состояния сердца, осознавшего свою порочность и прозревшего истину, с положением на рынке, когда изменяется "... цена и достоинство вещей и людей так, что это трудно представить, переворачивая весь рынок вверх дном..." (11; р. 169). Эти образы, взятые из житейского обихода и, безусловно, придававшие мысли Хукера живость и выразительность, способствуя усилению ее воздействия на слушателя, явно говорят о присущем ему артистическом темпераменте, проявлявшем себя во включении художественных элементов в нехудожественные по своему характеру структуры, что и делает их рассмотрение необходимым в перспективе формирования американской литературы. Неожиданностью своей они также заставляют вспомнить поэзию Эдварда Тэйлора, которая обнаруживает ту же склонность к сопряжению высокого и низкого, взятого в его конкретно-бытовом выражении.
библейского стиха из Екклезиас-та "Кривое не может сделаться прямым" строит свой образ на троекратном повторении слова "кривой": "Она делает кривыми слуг в семье, так что никто не может сладить с ними, кривыми жителей городов, кривыми членов конгрегации...". Применение однородных грамматических конструкций в соединении с противопоставлением и переменой знакового смысла частей высказывания позволяют Хукеру добиться выразительного лаконизма, энергичности и действенности, которые отличают его стиль. "Стыд лишает меня чести, бедность — богатства, преследования — покоя, тюрьма — свободы, смерть — жизни, и все же человек может'быть счастлив, может лишиться жизни и жить вечно. Но грех отнимает у меня Бога, а с ним уходит и всякое благо: преуспеяние без Бога будет для меня ядом, честь без него — отрава; нет, слово без Бога ожесточает меня, без него мои старания совсем ничего не прибавляют к моему благу" (11; pp. 158, 159). Как обычно, Хукер противопоставляет материальное и духовное, показывая ничтожность мирских благ в сопоставлении с божественным спасением через повторение с различной оценочной окраской однородных оборотов. Это создает высокое эмоциональное напряжение, наглядно показывая, что Хукер рассчитывал не на одно лишь умопостижение преподносимых им истин. Для него была важна как рациональная, так и эмоциональная сторона воздействия, целостное впечатление, для создания которого он привлекал различные средства собственно художественной выразительности.
С этим мы сталкиваемся и в произведениях других проповедников Новой Англии, хотя далеко не всем удавалось сравниться в этом отношении с Хукером.
Прижизненная слава Томаса Шепарда (Thomas Shepard, 1604/1605?—1649) не уступала славе Хукера, на дочери которого он был женат (личное знакомство, дружеские и семейные связи среди первых поселенцев, в том числе священников, были скорее правилом, чем исключением ввиду малочисленности населения). Судьба Шепарда, самого младшего среди первого поколения знаменитых ново-английских богословов, многие из которых пережили его, складывалась в значительной степени по типичному для этого поколения образцу. Он родился в Англии в семье, которая не могла похвастать ни богатством, ни знатностью, окончил Кембридж, рассадник английского пуританизма, принял обращение в пуританство и в конце 20-х годов XVII в. начал проповедовать. Однако обстановка для распространения пуританских доктрин складывалась неблагоприятная, поскольку открытая враждебность англиканской церкви пуританству и другим протестантским движениям перешла в это время в прямые гонения и преследования. В 1630 г. глава англиканской церкви архиепископ Лод запретил проповедовать Шепарду, который к тому времени, несмотря на свою молодость, очевидно, пользовался большой известностью, так как был вызван им для личных объяснений. Испытания лишь укрепили веру, и он на протяжении нескольких лет продолжал тайно проповедовать пуританские идеи, скрываясь от преследователей, пока не решил в 1635 г. переселиться в Америку.
Подобно всем первым переселенцам, Шепард нуждался в объяснении столь важного решения. Одни, как мы видели, отправлялись за океан, чтобы сохранить в чистоте истинную церковь, другие — чтобы продолжить там борьбу с дьяволом. У Шепарда в этом отношении заметно существенное отличие. "Не обладая ни мильтоновским величием, ни кромвелевской воинственностью,— пишет американский исследователь Майкл МакГифферт,— Шепард не был скроен, чтобы быть пророком, бунтарем или мучеником..."14. Отсутствие воинственного духа, столь характерного для первых ново-английских колонистов, и определило его выбор, о чем Шепард сам поведал с бесхитростной трогательностью, хотя, по всей видимости, и сознавал, что долг требовал от него иного.

"Хотя по правде я должен был бы остаться и пострадать за Христа..., я не видел, чтобы было на то какое-то правило теперь, когда Господь отворил дверь для бегства" (14; р. 5). Впоследствии же он сравнивал переселение за океан с воскресением из мертвых, так как здесь он стал жить среди людей, избранных Богом для особой исторической миссии. По прибытии в Америку Шепард обосновался в Кембридже, где служил пастором в церкви, а также в качестве неофициального капеллана был духовным наставником студентов Гарварда, для сохранения которого он приложил немало сил,/изобретая способы добывания средств на содержание колледжа, выпрашивал для него в Англии книги, отражал нападки, связанные с чтением языческих авторов, изъятия которых требовали особо рьяные члены церкви.
Подобно всем пуританам Новой Англии, Шепард верил в исключительность ее миссии и судьбы. "Во всем мире нет места, где бы существовала такая надежда обрести Господа, как здесь,— писал Шепард в одной из проповедей, включенных им в сборник, изданный под заглавием "Притча о десяти девственницах" (The Parable of the Ten Virgins, 1636—1640, публ.— 1660),— и потому люди благодарят Бога за наше восходящее солнце, когда повсюду оно заходит". Образ солнца здесь — безусловно метафора, выражающая и уверенность в будущем Америки (противопоставление восхода и заката), и свет истины, которым она обладает, в противовес остальным странам, прежде всего Европе, где воцаряется тьма, и божественное расположение, и тепло — знак отеческой заботы Господа. Свою новую родину он противопоставляет старой: здесь "Бог избавил нас от терзаний и мук нашей совести"15, которые избранному народу приходилось терпеть из-за гонений в Англии, где к тому же все поглощены мирскими заботами, не оставляющими времени для попечений 9 душе, "заняты судебными тяжбами, и почти что снедаемы уверенностью и гнетущими заботами об уплате долгов" (15; р. 33). Рядом с нею Новая Англия предстает как удивительный оазис спокойного и безмятежного существования, поскольку "церкви пребывают здесь в мире; содружество** — в мире; священнослужители — в самом благостном мире; магистраты (я должен бы назвать их первыми) — в мире" (14; р. 9). Однако "мир и изобилие", которыми наслаждается Новая Англия, замечает Шепард, не пошли ей на пользу: здесь возникла "странная уверенность", и вот уже "забыта молитва", появилось небрежение к Богу, отсутствует рвение в делах духовных и церковных, забота о спасении. Все это Шепард называет кратко: "грех Новой Англии". А назвав, обрушивает на голову грешников весь пыл своего красноречия. Убаюканные покоем, они впали в духовную спячку, предались мечтам, которые есть не что иное, как сатанинское наваждение. "Не впали ли мы здесь в грезы? Что еще значит это помрачение человеческих умов? Что за рой странных воззрений, что (подобно мухам) устремились к ранам в человеческих головах и сердцах... Что они значат, если люди не спят? Во-первых, пьянящие мирские мечты. Во-вторых, золотые мечты о благодати; что все эти вещи способствуют приближению благодати, тогда как они разрушают благодать; что нет благодати jb святых, нет благодати во Христе, нет человеческой природы, ни обещания быть свидетельством о благодати, ни закона, что послужит правилом тем, кто сподобился благодати: кто бы подумал, чтобы кто-то когда-нибудь так пал из-за простой женщины?" (15; pp. 172, 174).
Женщина, о которой идет речь в проповеди, это та самая Анна Хатчинсон, что была осуждена бостонским судом на изгнание, послужившее в конечном счете источником и ее собственной гибели, и гибели всех ее близких. Шепард представляет ее как орудие дьявола, вознамерившегося извести избранный народ самым изощренным образом, явив "прекрасное зрелище приближающегося Христа" (15; р. 173). Здесь он явно намекает на одно из положений учения Хатчинсон, утверждавшей, что для общения с Богом человеку, как и ей самой, не нужны посредники (священник, церковь, молитва), так как возможно непосредственное обращение к Богу, который посылает свой ответ через Христа, но не телесного — ибо Христос есть дух, и дух входит в человека — это-то и есть приобщение к благодати и знак того, что человек избран к спасению. Однако Шепард не столько озабочен разоблачением доктрины Анны Хатчинсон, которая ему, как и многим другим представителям ново-английского духовенства и администрации, показалась неприемлемо радикальной, сколько тем, чтобы вернуть в лоно традиционного пуританства заблудшую паству, которая поддалась бесовскому искушению.
его сочинениях немало записей, которые свидетельствуют об этом. Шторм выбрасывает корабль на берег, все уверены в неминуемой гибели, но пассажирам и команде удается спастись; лошадь смывает с затопленного водой моста, но всадника ждет спасение; беременная женщина падает с лестницы, но все обходится благополучно и для нее, и для будущего ребенка; община переживает тяжелые времена во время войны с индейцами, но противника удается разбить,— во всем видит Шепард руку Господа, простертую над теми, кто сохранил ему верность. Но избавление от несчастья, отрадное само по себе, значимо прежде всего потому, что в нем выражена воля Божья. Оно знак и как таковой вписывает единичный случай в божественный космический замысел бытия. Этот же принцип мышления развертывает Шепард в "Притче о десяти девственницах", обращаясь также и к тем, кто прельстился соблазнами дьявольского антиномианского учения Хатчинсон. Бог посылает им разные знаки, но с/ни остались глухи к его предупреждениям. "Господь пробуждал нас шмелем пекотов (намек на войны с индейцами — М. К.), но что пользы это принесло?" — восклицает он. Не заставили их пробудиться и личные несчастья. "Есть ли здесь человек, которому не пришлось бы нести здесь своего креста с тех пор, как он сюда прибыл, утраты скота и состояния, смерти дорогого супруга, ребенка, жены? Тяжкого и разъедающего недуга, и т. д., который на него навалился, и т. д., а вы разве все по-прежнему не спите?"
Тем, кто не услышал призывов к благодати и спасению, не увидел божественных знаков, посылаемых во спасение, Шепард напоминает об адских муках. "Подумайте о яростном гневе против нечестивцев, что поднимутся словно жабы, вылезающие в зимнюю пору из нор своих..." (15; р. 174),— взывает он к грешникам. Образ отвратительной жабы, вероятно, показался ему весьма подходящим для воплощения омерзительности греха, и Шепард не раз прибегал к нему в аналогичном контексте. "Когда Судия и Члены Суда воссядут на скамье одесную от Христа в своих креслах, тогда выведут виновных узников, и выйдут они из своих могил, будто грязные жабы пред этой ужасной бурею" (12; р. 228),— пишет он в "Искренне обращенном" (The Sincere Convert, 1640), одном из его наиболее часто цитировавшихся сочинений.
Справедливости ради надо сказать, что Шепард умел не только запугивать верующих божьими карами, в чем были необычайно искусны пуританские богословы, с которыми вряд ли кто мог соперничать по этой части. Ему удавалось и то, что было не под силу многим его собратьям — представить радостные, исполненные света картины блаженства души, приобщенной к Господу. В полной мере эта способность проявилась уже в ранних сочинениях Шепарда, в частности, в проповедях, опубликованных под общим названием "Твердо верующий" (The Sound Believer, ок. 1633). На третьем небе, где души спасенных навсегда воссоединяются с Богом, пишет он,— "... наши глаза, уши, умы и сердца будут вечно очарованы тем восхитительным сиянием, что сверкает ярче десяти тысяч солнц, оно соткано божественным рукоделием (ежели я смею так сказать), расшито всевозможными цветами разных оттенков филигранным искусством самого Бога...". Точно так же будут преисполнены сияния и "нетленные тела" обитателей третьего неба, оно будет столь ослепительно ярким, что все, созерцающие их, "будут бесконечно очарованы, видя, что такие комья праха, как мы, достигли столь несравненной красоты и приятности небесного сияния". Там блаженные воссядут рядом с Авраамом и Исааком и принятые "в лоно Авраамово" будут говорить о чудесах, сотворенных Господом, и "каждая фраза и слово будут млеком и медом, слаще, чем может быть теперь для тебя жизнь твоя. Мы будем знать и любить, и почитать друг друга бесконечно" (15; pp. 35, 36).
Расточая хвалы "божественному рукоделию", Шепард и сам следует правилам того, кто его создал, "расшивая" свой текст словесными "цветами", наподобие золотого шитья: здесь и гипербола ("ярче десяти тысяч солнц"), и метафора радужного райского неба, переданная образом вышитых Богом цветов, своей яркостью и "узором" напоминающая народную картинку или вышивку, а также фон старинного гобелена или средневекового живописного полотна, где по гладкому полю рассыпаны цветы, и, наконец, неожиданный образ "божественного рукоделия", заставляющий представить Бога за пяльцами, с мотками ниток всех цветов и оттенков — картинка радостная и очень яркая по колориту. Широко использованы библейские обороты ("лоно Авраа-мово", "млеко и мед"), не только вводящие слушателя и читателя в привычный для него идеологический контекст, но и настраивающие его на иносказание, на фигуральность речи, на аллегорию и эмблематику.
Мотив любви и милосердия божия — один из постоянных мотивов сочинений Шепарда, Христос — это /'... милосердие и любовь ко всем нищим духом, смиренным, верующим грешникам, что пришли к нему...", расположение и любовь Бога "сладостны" (14; pp. 22—23). Нередко Шепард прямо противопоставляет их божьему гневу, который подчас трактует как изобретение Сатаны, с помощью которого тот стремится отвратить людей от Бога. Неповторимую особенность этой любви Шепард передает словом "нежносердие", которое он, возможно, сам и ввел впервые в употребление. Но о ней-то как раз люди, по мнению Шепарда, и не ведают, "... все сомнения Христиан,— рассуждает он в "Притче о десяти девственницах",— проистекают главным образом из этого пункта, из сурового представления о Христе, которое внушает Сатана... <...> Сатана представляет его только во гневе" (14; р. 22). Более того, Шепарда все сильнее не удовлетворяет обращение к Богу из страха перед его гневом. Страх порождает лицемерие, аффектацию, неискренность. "Я должен любить Христа,— записывает Шепард в своем "Дневнике" (Journal, опубл.— 1747), сохранившаяся часть которого относится предположительно к началу 40-х годов XVII в.,— "из любви ненавидеть свой грех, а не из страха перед гневом..." (14; р. 230).
"людей невозможно страхом загнать на Небо; подлинная святость проистекала не из страха, а из чувства благодарности и любви, представляющих собой надлежащий ответ избранного на предложение о спасении" (14; р. 22).
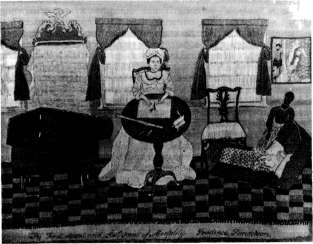
П. Пандерсон. Три сцены смертного удела. Вышивка шелком. Ок. 1775 г.
Эта понытка совместить крайности, между которыми постоянно колеблется мысль Шепарда, говорит скорее о присущем ему дуализме мышления, заставлявшем его склоняться попеременно в пользу то одного, то другого. Последний, надо заметить, был вместе с тем отличительной чертой пуританского мировосприятия в целом, не ускользнувшей от внимания самих пуритан, чьи идеологические установки ориентировали их на неустанный самоанализ и саморефлексию. Быть может, одно из наиболее красноречивых определений пуританского дуализма дал Джон Коттон, не без удивления писавший: "Имеется еще и другое сочетание добродетелей, странным образом соединяющихся в каждом энергичном благочестивом христианине, а именно: радение о мирских делах и тем не менее смерть для мира. Это такая тайна, коей никто не может прочесть, кроме тех, кто знает ее" (курсив мой.— М. К.; 11; р. 171). Коттон и сам отлично сознает парадоксальность, "тайну" подобного соединения обнаженного практицизма и отрешенности от мира, которое стало краеугольным камнем пуританской этики. Характерный для пуританской Новой Англии дуализм мышления отчетливо выражен у Шепарда, хотя проявляет он себя в иной, чисто спекулятивной сфере. Потому не меньшей выразительностью, чем видение райских кущ отмечены его картины Страшного суда, где Бог предстает в своей гневной кальвинистской ипостаси, словно Шепард никогда не слыхал о милосердном Боге всеобщей любви и прощения и не приписывал внушающего ужас представления о разгневанном Боге проискам Сатаны.
"Твоя душа,— обращается он к грешнику,— будет исторгнута из твоего тела, точно из зловонной тюрьмы, Дьяволом, Тюремщиком, ... и будешь ты стоять там, лишенный друга, всякого утешения, всякой твари перед Лицом Бога... <...> Теперь ты не зришь Бога, разлитого в мире, но тогда узришь Всемогущего Иегову, вид которого поразит тебя адским страхом и жутким ужасом...". Бог, чье дыхание подобно "потоку серы", который сам есть "всепожирающее пламя", нанесет грешнику "смертельный удар", предав его "нестерпимым мучениям гнева", так что пока "друзья будут бороться за твои пожитки, а черви — за твое тело, Дьяволы будут так же бороться за твою душу". Сам же грешник, обреченный по решению Бога на адские муки, будет лежать, придавленный "Божьим Гневом, пылающим, словно Огненная Поленница над Душой твоею, и никакие Потоки, нет, Моря, нет, больше, Моря Слез (ибо ты будешь вечно лежать и лить слезы) никогда не погасят его" (12; pp. 226, 230, 227, 230, 227, 232).
У картины адских мучений, нарисованной Шепардом, такая же цель, как и у описаний райского блаженства. И те, и другие призваны отвратить душу от порока, привести ее к поискам спасения в Господе. Большинство ново-английских богословов было твердо убеждено, что добиться этого можно скорее с помощью мрачных и зловещих изображений страданий грешников в аду. Шепард пытался соединить обе картины, сполна используя выразительные возможности контраста, воздействуя на паству и страхом, и умилением. Но он определенно не хотел, чтобы хоть кто-то совсем позабыл об аде. "Этот мир,— предупреждает он,— сцена, где Божье Терпение и Великодушие играют свою Роль, и оттого каждый человек считает и провозглашает, что Бог милостив, потому что он это чувствует. Но поставлена под сомнение справедливость Бога. Люди думают, что Бог — весь Милосердие без Справедливости; только Мед, без Яда; сейчас порочные процветают на своих путях, и никогда не получают наказания, и умирают в мире..." (12; р. 228). Торжество неправедных и нечестивых, о котором говорит Шепард, возможно исключительно потому, что люди уверовали в безграничное милосердие божие. Сама эта уверенность представляется ему заблуждением, от которого излечить человека может лишь восстановление в их душах образа грозного Бога пуритан.
В частности, в "Дневнике" Уинтропа сообщалось, что один из членов конгрегации после проповеди покончил с собой — столь глубоко задел Шепард его совесть. Основываясь на этих легендах, священник Томас Принс, впервые опубликовавший часть "Дневника" Шепарда, писал в сопровождавшей это издание заметке, что Шепард, "редко когда произносил проповедь, чтобы кто-нибудь из конгрегации, пораженный великим отчаянием, не воскликнул в мучениях: "Что мне делать, чтобы спастись?" (14; р. 8).
Мучил этот вопрос и самого Шепарда, но мысль его, подверженная колебаниям, то готовая склониться к безраздельной вере в божью милость, то убеждавшая его в собственной неготовности к восприятию ее и незаслуженности ее, не позволяла ему найти успокоение. Отчетливо запечатлел Шепард эту двойственность мысли в своем "Дневнике" и "Автобиографии", которые представляют тем большую ценность, что являются единственными в своем роде памятниками ранне-колониального периода.
С неослабным вниманием прослеживает он на страницах своего "Дневника" малейшие движения души, выявляя и фиксируя те мгновения, когда она утрачивает связь с Богом, веру, единственную опору истинного христианина, каким он всегда стремился быть. Не раз и не два пишет он об обуревавших его сомнениях и страхах, будто у него "нет веры" или что это "ошибочная вера", что в душе у него зияет никогда не заживающая рана "тайного атеизма", подобная "застарелой язве плотской неприязни и безверия" (14; pp. 206, 184).
Как и для всякого пуританина источником душевных терзаний Шепарда была неуверенность в спасении. Ведь его, согласно пуританской доктрине, нельзя заслужить никакими добрыми делами. "Я увидел, что если я положу свои дела за свидетельство моего спасения, оно будет таким же непрочным и неопределенным, как были мои дела милосердия..." (14; р. 101). Но опасность подстерегала Шепарда и при чрезмерном доверии к "ковенанту милосердия". Опасность эта исходила для пуританина из его собственной души, поддававшейся соблазнам, которые лишали ее всего того, чего она жаждала. Слишком большая уверенность уже сама по себе означала гордыню, упование на знак свыше — бездеятельность и леность, соблюдение церковных ритуалов и других предписаний благочестия — лишь дань внешней форме, за которой может и не скрываться истинного чувства,— все это пороки, проявления греха, за который придет неминуемая расплата.
Любой поступок, продиктованный какими угодно благими намерениями, оказывался, таким образом, лишь новой ипостасью греха, не приближая человека к Богу и спасению, а, напротив, удаляя от него. По точному замечанию М. МакГифферта, "Дневник" Шепарда обнажает тонкие психологические операции, посредством которых в сизифовой последовательности тревога переводится в уверенность, которая переводится в тревогу" (14; р. 25). Шепард довольно точно и сам определил это, записав в "Дневнике": "... наибольшая часть христианской благодати состоит в скорби об ее отсутствии". Скрупулезно анализируя свои поступки и состояния, Шепард приходит к парадоксальному выводу, полностью согласующемуся, однако, с христианским учением. Поскольку у Бога свое представление о предназначении человека, заключает он, "... чем я слабее, тем более я пригоден для употребления (Богом.— М. К.)... Когда я был опустошеннее всего, тогда я был более всего полон веры" (14; р. 139).
"Дневнике", отражают также и другие колебания — между разумом и верой. В конце концов он приходит к убеждению, что рационалистический подход недостаточен, и потому "... было правильно и справедливо со стороны Господа запутать и оставить в темноте всех тех людей, что ищут окончательного решения относительно какой угодно доли его мудрости с помощью разума..." (14; р. 165). Шепард с его тонким аналитическим мышлением не мог не заметить, что эти доводы — также не что иное как рационалистические построения, которые в силу этого могут быть равно ошибочными. Поэтому настоящей антитезой рационалистическому подходу оказывается сердце, источник и вместилище живой веры. "Я видел Бога с помощью разума, и никогда не был поражен Богом. Я увидел самого Бога и был охвачен восторгом, лицезрея его" (14; р. 136). Мистический опыт, которому Шепард отдает здесь предпочтение, опасно сближает его с антиномианцами, ярым противником которых он выступил ранее во время процесса над Анной Хатчинсон. Высокообразованный теолог, не почувствовать этого он не мог. Не мог он не понять и того, что выбор между разумом и сердцем, умопостижением и не вопрошающей верой был вместе с тем и выбором между "истинной" церковью, т. е. пуританством — и ересью. Отступничество, в любой форме содержащее в себе вызов, было не в натуре Шепарда, тем более, что интеллектуально выбор его давно и безраздельно принадлежал "истинной" церкви.
Не ускользнуло от понимания Шепарда и то, что его трудности, если рассматривать их в ином аспекте, фактически упирались в проблему личности. Выросшая из самоутверждения индивидуальности в эпоху Возрождения, Реформация перенесла этот процесс не только в сферу церковных отношений, но и отношений между человеком и Богом, предоставив человеку некоторую автономию: признать его полную независимость значило бы совсем отказаться от Бога, чего не допускало религиозное мировоззрение ее участников. Однако, опираясь в своей борьбе с католичеством на новую концепцию личности, сформированную ренессансным гуманизмом, протестантство, с другой стороны, этой концепции не разделяло и объявляло личность едва ли не главным источником зла на земле. Особенно это заметно в тех его направлениях, где возобладало кальвинистское учение с центральной для него доктриной первородного греха и проистекавшей из нее идеей неизбывной порочности человека, как, например, в пуританстве Новой Англии. Именно в свете нового понимания личности, утверждавшегося гуманистической традицией, становятся понятны инвективы английского богослова Ричарда Бакстера, очень влиятельной фигуры как в пуританской Англии, так и в Новой Англии. "Падением человека было его отвращение от Бога к себе; и его возрождение состоит в отвращении себя от себя к Богу. <...> Против чего главным образом говорит Писание — это "я". <...> Сами слова "я" и "Собственный" должны звучать весьма ужасно для слуха бдительного христианина, это бередящие слова, которые близки словам "грех" и "сатана" (7; р. 17). Естественно, что для Бакстера самоотрицание и любовь к Богу становятся тождественны. И так было для всех, кто разделял учение пуритан.
Результатом могло быть только противоречие, которое так и не получило разрешения. Личность должна была через "отвращение", отказ от себя, вернуться к Богу, но в самом ее самоотрицании происходило ее новое самоутверждение. В одной из проповедей, которая была опубликована в его книге "Искренне обращенный", выдержавшей к середине XVIII в. двадцать изданий, где Шепард рассматривает "девять легких Путей на Небо (как думают люди), все из которых ведут в Ад", последним пунктом названа "Любовь к Себе". Согласно Шепарду, "здесь лежит величайшая из всех трудностей — грести против Течения и ненавидеть человеческое "я ", и вот тогда-то полное следование Христу" (курсив мой.— М. К.). С "величайшей из всех трудностей" сталкивался и он сам, о чем красноречиво свидетельствуют его дневниковые записи, потому что на этих страницах рядом с его "я", в сладостном порыве самоотречения простертом ниц у алтаря Господа, за ним, над ним неизменно встает другое "я", беспристрастно наблюдающее за первым, дерзко вопрошающее в самой своей отрешенности и утверждающее себя не только тем, что оно преследует собственные цели, желая "... получить для (себя), а не для Господа", "получить благо" для себя, но самой своей отрешенностью, отказом раствориться в мистическом экстазе. Перенесенная на бумагу, саморефлексия сама становится предметом наблюдения и суждения. Как бы поменявшись местами с первым "я", теперь второе "я" оказывается внизу, но не в экстазе, символизирующем высшую точку духовного опыта, а в падении, заклейменное позором за свою ущербность, которая выразилась в неспособности обрести подлинное единение с Богом, уподобиться "стеклянному светильнику, чтобы его лучи проникали сквозь него" (12; pp. 222, 224, 218).
Самопознание и самоанализ, которым и гуманисты, и протестанты отводят ключевую позицию во взаимоотношениях человека с окружающим миром, имеют у них, таким образом, и разную направленность, и разные цели. У гуманистов его целью была полная самореализация личности, достигающей посредством самопознания полного духовного раскрепощения, у пуритан — выявление с его помощью подлинных глубин порочности человеческой природы, полная духовная свобода которой означала бы лишь еще большее порабощение личности злом, устраняемое только свободным даром божественного милосердия. Очень точно определил эту особенность пуританского мышления, столь отчетливо проявившуюся у Шепарда, но свойственную не ему одному, Сакван Беркович: у пуританских авторов "... самостояние оказывается состоянием, которое нужно преодолеть, избыть, и личность утверждается с помощью акта подчинения трансцендентальному абсолюту". Исследователь поэтому считает неверным распространение утверждения, будто у пуритан самоанализ ведет к раскрепощению духа — в действительности он "... служит не освобождению, а удушению..." (7; р. 13).
К тому времени, когда Шепард закончил свой недолгий земной путь, проповедь стала не только ведущим литературным жанром Новой Англии, но и сформировалась как идейно-художественное единство с развитой системой образов, далеко отступив от канонической формы нравственного наставления. Сохранив еще с английских времен идею чистоты истинной веры и воинственный протестантский дух, она обрела черты, которые могли возникнуть только в результате американского опыта.
— не собственное спасение и даже не спасение своей веры, а миссия, возложенная на них Богом, чью волю они призваны исполнить ради спасения всего человечества, началось творение мифа. Оно было в той же мере индивидуальным, что и коллективным, настолько же авторским, насколько анонимным. Миф и составил главное содержание проповеди в первые десятилетия существования колоний. Основой этого мифа стало прочтение Библии, при котором традиционная, идущая от Средневековья "типология" (персонажи и события из Ветхого Завета выступают как "типы", или префигурации Нового Завета) расширилась так, что в нее вошел третий компонент — они сами вместе с историей переселения за океан. События священной истории воспринимались теперь как "типы" современных событий, участниками которых они были. Ядро их концепции истории составило спасение народа израильского из египетского плена под водительством Моисея, притом каждому звену находился соответствующий аналог в жизни пуританской общины. Египетский плен — это гонения, которым поборники "истинной веры" подвергались в Англии, сорокалетние скитания в пустыне — опасное переселение за океан и жизнь на необжитых американских берегах, которая была духовным испытанием перед вторым пришествием Христа и строительством "Града на Горе", Нового Иерусалима, который, став образцом для всего мира, тем самым исполнял свою миссию спасения человечества. Сами они, согласно этой концепции, были богоизбранным народом, орудием божьего промысла.
времени и пространства. Сама история приобретала телеологический характер и, разворачиваясь, по видимости, в XVII в. на территории Новой Англии, в действительности творилась в космическом пространстве и вечности, воплощая идущую от сотворения мира драму борьбы Добра и Зла. То, что пуритане именно так видели и понимали историю, в которой участвовали и которую творили, говорят многочисленные театральные аллюзии, встречающиеся в их текстах. Использовав ренессансный образ мира как театра, они придали ему сакральное значение, представив мир, если воспользоваться словами Шепарда, как "величественный Театр Неба и Земли" (12; р. 224), в котором сами они выступали наравне с управляющими универсумом силами. Это изменило масштаб действия, сообщив ему эпический размах, перенесло крошечную группу людей, затерянных на окраинах цивилизованного мира, в центр мировой истории, поставив в зависимость от их действий судьбы человечества.
К тому же их сакральная история, в отличие от истории остального мира, движущегося в неизвестность, получала не только точку отсчета в прошлом и матрицу движения, но и отличавшуюся не меньшей определенностью проекцию будущего, с которым связывалось исполнение божественного промысла. События, действия, деятельность и деятели обретали смысл не сами по себе, а были знаком и эмблемой космической драмы.
Когда миф этот в общих чертах оформился, отпала надобность представлять его в проповеди целиком — достаточно было ввести несколько или даже какой-то один из его элементов, чтобы в сознании слушателя выстроился весь ряд. Образы, используемые для воплощения мифа, приобретают устойчивый характер, образуя некий постоянный набор, в котором каждый из них с определенностью соотнесен с той или иной конкретной идеей. Этот образно-идеологический сплав составляет общее достояние новоанглийских авторов, возникшее на единой идеологической платформе в результате их совместных усилий. Образующие его отдельные элементы выступают как идеологемы, посредством которых живая реальность претворяется в миф согласно пуританскому видению. Иными словами, мир, предстающий на страницах сочинений пуритан Новой Англии, это мир в буквальном смысле рукотворный, в котором не их взаимоотношения с реальным окружением порождают идею, но, напротив, идея диктует характер взаимоотношений с действительностью, сообщает ей и форму, и содержание и в этом отношении неизменно выступает в процессе становления американской культуры как активный формообразующий фактор.
Поскольку история, которую они сознательно творили, была обращена в будущее, проповедь становилась пророчеством, ибо, по выражению одного из ново-английских проповедников XVII в., Николаса Нойеса, "пророчество — это предвосхищенная история, а история — это постреализованное пророчество"16"выпасть" из божьего замысла, сама же осуществимость возложенной на них миссии не подвергалась сомнению.
В 60-е — 70-е годы XVII в. в проповеди обнаруживаются изменения образного строя и направленности, свидетельствующие о сдвигах в пуританском сознании и представлениях о смысле и судьбе их миссии. "Предвосхищенная история" не совпадает с историей реальной, и именно в силу того, что пророчество оказывается "постнереализованным", проповедь-пророчество сменяется проповедью-иеремиадой. В ней оплакивается судьба, постигшая Новую Англию с уходом поколения основавших ее "отцов", патриархов, которых "дети", т. е. поколения, выросшие уже в Америке, оказались недостойными. С характерным для них равнодушием к церкви и религии, отсутствием активности как в жизни общины, так и в церковной жизни, с их слабостями к мирским соблазнам и нравственной распущенностью, они были плохими преемниками идеалов отцов. Постоянным мотивом проповедей становятся упреки в отступничестве, самым страшным итогом которого было не вечное проклятие, уготованное поколению "детей", а крушение великой миссии Новой Англии.
Эмори Эллиотт, глубоко проанализировавший возникший здесь конфликт поколений в своей книге "Власть и кафедра проповедника"', отмечает, что в нем речь шла не просто об "обычных семейных трениях. Особый склад отцов-основателей, трудности культурной адаптации к новому краю и особые экономические и религиозные факторы, действовавшие в Новой Англии семнадцатого столетия, до чрезвычайной степени усилили обычное давление на молодых и способствовали созданию уникального кризиса"17
Не вдаваясь в подробности этого кризиса, имевшего социальные, политические и психологические причины, проследим, как он отражался в проповеднической литературе. Одним из классических образцов жанра иеремиады стала проповедь, прочитанная Сэмюэлем Дэнфортом (Samuel Danforth) в день выборов губернатора и магистратов в 1670 г., озаглавленная "Поручение в Пустыню" {Errand into the Wilderness). Образ "пустыни" имеет здесь, как и ранее, символическое и метафорическое значение, которое особо подчеркнуто введением образа Иоанна Крестителя в пустыне. Последний призван напомнить, что как Иоанн был предтечей Иисуса, так и их собственное пребывание в "пустыне" есть лишь пролог к той подлинно великой истории, которая начнется с завершением строительства "Града на Горе". Основы града были заложены славными предшественниками нынешнего поколения, теперь один за другим покидающими этот свет. "Первые отцы и основатели" возвели в дикой и воющей "пустыне" "огражденный сад", предвестие исполнения божьего завета, но теперь сад зарос крапивой и терниями (16; р. 55).
XVII в., были и иные причины. Восприятие истории вообще и собственной истории носило у пуритан Новой Англии мифологизированный характер; параллельно с освоением окружающего мира они творили свой миф об истории, отвечающей их представлениям об уготованной им великой миссии. Логика мифа вмешивалась в реальное течение истории, оказывала на него давление, подчиняла его себе. В реальной истории Новой Англии "прошлое" и "настоящее", разделенные жизнью всего лишь одного поколения, соприкасались непосредственно, тогда как миф требовал их максимального разведения. Реальная временная дистанция оказывалась для этого совершенно недостаточной. Логика мифа подсказывала взамен иной способ достижения необходимого эффекта: усиление контраста при сопоставлении поколений. Именно ею продиктовано переосмысление образа и роли как "отцов", так и "детей", которое присутствует в проповеди С. Дэнфорта и множестве других проповедей того времени. В первом случае оно шло по линии возвышения, во втором — снижения, приводя в итоге к героизации "отцов". Только в таком виде прошлое могло стать частью пуританского мифа, войти в его структуру в качестве одного из опорных блоков. В процессе отвечающей задаче мифотворчества героизации предков реальное поколение отцов очищалось от неприемлемых в новом контексте конкретных черт. Это становится совершенно очевидно, если вспомнить, что первое поколение составляли те самые "грешники", к которым обращались Томас Хукер, Джон Коттон, Ричард Мэзер и другие священнослужители, клеймившие их порочную природу, и которые сами, подобно Томасу Шепарду, терзались своей греховностью.
"святые начинания" первых дней сменились "... небрежным, нерадивым, плоским, сухим, холодным, мертвенным расположением", которое характерно для современного состояния духа Новой Англии. "Гордыня, раздоры, мирские интересы, алчность, роскошь, пьянство и грязь потоком обрушиваются на нас, и добрые люди охлаждаются в своей любви к Богу и друг другу", а "главная причина,— утверждает Дэнфорт,— "наше неверие" (16; pp. 65, 67, 68, 69). Но эти и другие страшные несчастья, обрушившиеся на колонию,— лишь внешние проявления божьего гнева, наказывающего вероотступников, нарушивших ковенант, который они заключили, обязавшись выполнять великую миссию. "Как удручающе засвидетельствовал Господь против нас из-за утраты нашей первой любви и нашей нерадивости и небрежения к его работе?" — вопрошает он паству и отвечает, что это "... знак того, что Бог подготавливает путь для своего гнева...". Но Дэнфорт еще не отказывается от надежды на успешное завершение великой миссии пуритан. Необходимо лишь возвращение к Богу. "Исполним мы наше поручение, с которым Христос послал нас в пустыню, и он даст нам хлеб", "... таким образом нам обещана Божественная защита и сохранение" (16; pp. 70, 74, 77).
Проповедь Дэнфорта вносит новые элементы в сложившуюся форму. Один из них — образ "огражденного сада", воплощение усилий "избранного" народа по претворению божьего замысла, успешность которых была знаком верховного расположения и покровительства их трудам. Второй — изменение адресата проповеди. Разделяя паству на белых и черных овец, он обращал упрек в вероотступничестве не ко всем присутствующим, не к грешнику вообще, а лишь к молодому поколению, которое оказалось непригодно для выполнения дела "отцов". Эти два мотива заняли ведущее место в последующей проповеднической литературе.
В проповеди, прочитанной в аналогичных обстоятельствах в 1682 г. Сэмюэлем Уиллардом (Samuel Willard), "Единственный верный способ предотвратить угрожающее БЕДСТВИЕ", (The only Sure way to prevent threatened CALAMITY) идея "огражденного сада" получила дальнейшее развитие. Сад этот не только приходит в запустение в результате забвения своих обязанностей теми, кому надлежит ухаживать за ним, но и подвергается нападениям извне, со стороны "пустыни", грозящим окончательно разорить его. Его спасение берут на себя священники, которые становятся дозорными "... по торжественному и строгому уговору, чтобы следить и высматривать все приближающиеся опасности и вовремя предупредить о них". Чтобы избежать опасности неверного, житейского толкования их деятельности, Уиллард напоминает о сакральном характере их деяний: "Христос поместил их на дозорную башню, и вложил в их руки трубу, поручив им под угрозой смерти трубить, когда того потребуют обстоятельства". Но видя упадок религиозного рвения и распространение порока в его саду, предназначенном для "избранных", "святой и ревнивый" Бог пуритан, наблюдающий за ходом строительства Нового Иерусалима, посылает им знаки своего гнева, грозящего смести отступников с лица земли. Однако Уиллард, как и Дэнфорт, не отнимает последней надежды у грешных восприемников отеческой миссии, если они раскаются. "Он не забыл любви ваших отцов, что последовали за ним в пустыню, где земля не была заселена. <...> Хотя топор занесен и готов опуститься, он все же видит иные малые скопления и велит пощадить их, потому что там есть благословение" (16; pp. 90, 97, 99).
была объявлена королевской собственностью и получила вместо выборного губернатора — губернатора, назначенного королем. Деятельность и личность первого посланца короля, Э. Андроса, вызвала сильное недовольство колонистов. В этой атмосфере и была прочитана проповедь К. Мэзера, однако главным предметом его забот остается по-прежнему беспокойство о духовном саде. Предваряя проповедь строками из стихотворения Дж. Герберта "Воинствующая церковь", где говорится не только о скором бегстве религии в Америку из Англии, погрязшей в пороке, но и предвещается, что за церковью на запад по пятам последует и грех, К. Мэзер заявляет ее основную тему. Он возвращается памятью назад, когда первая хартия побудила "... отцов и предков прибыть в эту пустыню и засадить ее за свой счет и своим попечением". Он противопоставляет Новую Англию, с которой пребывает Бог, Европе, грозя ей чудовищными по своей мрачной выразительности карами: "... великий и ужасный Бог в этот день выходит из своей обители, чтобы обратить Европу в арену, залитую кровью и пламенем, и заставить все народы испить сполна эту чашу и помрачить их всякого рода странностями и сумятицей..." (16; pp. 118, 128). Европа и Америка противопоставлены по принципу сакрального и профанного пространства, одной из них приписана порочность, другой — праведность, обеспечивающая божье покровительство. Однако К. Мэзер начинает тут же как бы опровергать сам себя, вводя тему отступничества молодого поколения, которое угрожает судьбе всей Новой Англии.

Ричард Мэзер. Гравюра на дереве Джона Фостера. XVII в.
—1728) был членом одного из самых влиятельных в Новой Англии кланов, начало которому положил Ричард Мэзер (Richard Mather), 1596—1669). Основатель этой богословской династии, прибывший в Америку с одной из первых групп поселенцев в 1635 г., оставил Англию по религиозным мотивам, конгрегационализма. Здесь он пользовался большим влиянием, хотя в искусстве проповеди его, по мнению современников, затмевали такие знаменитые проповедники, как Томас Хукер, Джон Коттон и Томас Шепард.
Сыновья Ричарда продолжали начатое им дело. Из них особенно выделялся Инкрис Мэзер (Increase Mather, 1639—1723), в собственной судьбе которого ощутимо сказался конфликт поколений, вызвавший рождение иеримиады. Инкрис Мэзер, придерживавшийся сурового кальвинистского духа первого поколения, и сам отдал дань этому жанру, обрушив жестокие упреки в адрес своих сверстников, чьи прегрешения навлекают гнев божий на Новую Англию. Пророчествуя о приближении тяжелых для нее времен, он стенает о ее судьбе: "Ах! Бедная Новая Англия, твои Колесницы и Твои Всадники покинули тебя, и теперь Враги твои выступают против тебя" (17; р. 115). Причиной этих бедствий И. Мэзер объявляет слабость и бессилие молодого поколения. Оно лишает Новую Англию божьей защиты, так что ее мирной жизни в уединении, в отдалении от остального мира, от которого ее предусмотрительно отделила рука провидения, может скоро придти конец, так как сюда могут перекинуться войны и раздоры, опустошающие Европу. "Что слышим мы в эти дни, кроме как о Войнах и Слухов о Войнах? — вопрошает он,— о Народах, поднимающихся один противу другого, и Царствах противу Царств? Теперь, ежели то лишь начало печалей, каков, где и когда будет им конец? Разрастающееся бедствие разразилось над миром... которое не удержится в обычных границах и берегах... А как далеко докатится оно? Как мы считаем, куда обрушится, наконец, Хвост этой Бури? А что, если он обрушится на Америку? Не падут ли хоть какие-то камни на Новую Англию"!" (17; pp. 114—115).
пуританский Бог. Однако постепенно в его проповеди начинают проникать более мягкие ноты, отчетливо зазвучавшие в 80-е годы XVII в. По-прежнему клеймя грехи молодого поколения, он все же не отказывает ему в целом в возможности спасения и даже отмечает некоторые его достоинства, сравнивая тех, что пали в 70-е годы в войне с индейцами, с представителями первого поколения. "Бог убрал Столпы этого Поколения, даже тех, что стояли в Проломе и много бы сделали, чтобы предотвратить Потоп изливающихся Приговоров" (17; р. 125). Показателен самый выбор метафоры "столпы", которая ранее употреблялась для обозначения только первого поколения, и "пролом", которым обозначалось разрушение стены "огражденного сада" именно в результате действий молодого поколения, а также сама их стяжка. Те, кто обвинялись ранее как разрушители, теперь не только уравнены в своей роли с "отцами" ("столпы"), но они уже стали и стражниками ("стояли в Проломе"), защищая сад от вторжения извне.
Коттон Мэзер, внук Ричарда и сын Инкриса Мэзеров, был также внуком Джона Коттона, в честь которого и был назван, и стремился своими трудами приумножить, наследственную славу. Он был автором множества сочинений, и хотя среди них преобладали, естественно, труды богословского характера, писал он и научные трактаты, послужившие основанием для принятия Коттона Мээера в члены Лондонского Королевского общества. Он питал живейший интерес к астрономическим наблюдениям и, при его семейных традициях, воспитании и склонностях, трактовал природные явления как знаки трансцендентного мира. Писал он и стихи, хотя его поэтические опыты были малоуспешны. Известность принесли ему проповеди и богословские сочинения, среди которых нужно в первую очередь назвать Magnalia Christi Americana ("Великие деяния Христа в Америке", 1702).

Коттон Мэзер. Гравюра Питера Пелама. 1727.
распространенного в Англии и по всей Европе. Докатились рационалистические веяния и до американских берегов, хотя справедливость требует добавить, что он изначально в сильной степени присутствовал в пуританстве. Подобно отцу, он в своих проповедях громил современников за отступление от "великого плана", утрату веры и торжество порока в колонии. Ревностное желание способствовать искоренению греха привело к тому, что Коттон Мэзер стал едва ли не главной фигурой и вдохновителем сэйлем-ского ведовского процесса, хотя современные исследования показывают, что, вопреки традиции, возлагающей на него вину за казни, он был против их применения. На время, казалось, его воля восторжествовала, и Коттон Мэзер занял то положение, которое позволяло ему считать себя орудием божьим в деле очищения Новой Англии от скверны и восстановления "истинной" церкви, но в конечном счете этот процесс послужил решающим ударом по теократии, от которого она никогда не оправилась.
"Великие деяния Христа в Америке" были задуманы Коттоном Мэзером как прославление ново-английской теологической традиции. Книга отличается оригинальностью замысла, восходящего к "Жизнеописаниям" Плутарха. В ней история Новой Англии представлена биографиями видных богословов и деятелей общины, из совокупности которых должен был составиться очерк всего пути, пройденного американскими пуританами. Каждый из них представал образцовым воплощением соответствующей стороны жизни колонии, которое, с одной стороны, противостояло "образцам" Старого Света, а с другой — могло служить основой для повторения его другими жителями "образцового" общества. "Великие деяния" героев книги отличались от великих деяний и древних мужей античности, и христианских подвижников, потому что требовали не подвига доблести или чудес, а лишь духовного подвига, заключенного, однако, в рамки обыкновенных жизненных условий.
Книга Коттона Мэзера в определенном смысле подводила итог развитию Новой Англии в XVII в. Интересы XVIII века лежали в совершенно иной плоскости, и "Великие деяния Христа в Америке", быть может, самое грандиозное по замыслу произведение, созданное здесь за целое столетие, оказалось в сущности книгой без адреса.
Коттон Мэзер был одним из самых плодовитых авторов колониальной Америки. Сочинения самого разного плана, от проповедей до научных трактатов, выходили из-под его пера с завидной регулярностью, не обнаруживая признаков оскудения и в пору, когда знаменитый богослов был уже в преклонных годах. С той же регулярностью они печатались по обе стороны океана, в его родном Бостоне и в столице метрополии, Лондоне. По свидетельству исследователей, К. Мэзер имел удовольствие видеть напечатанным то или иное сочинение каждые пять-шесть недель, о чем неоспоримо свидетельствует выпущенная в 1940 г. библиография его работ, составившая три тома.
Подобно многим ново-английским авторам XVII в., К. Мэзер вел "Дневник" (Diary, публ.— 1911—1912), куда скрупулезно заносил все свои слабости и прегрешения, все отступления от божественного завета, а также свои стремления к совершению благих дел. Как типичный пуританин, он мерил свой век высоким идеалом, возвещенным в Библии, и теми уступками мирским соблазнам, перед которыми не могла устоять греховная плоть, ввергая душу в земной ад самоистязания.
"Пуританин, стремившийся выразить и понять свое подсознательное "Я",— пишет Эмори Эллиотт,— естественно обращался к дневнику или духовной автобиографии как литературной форме, соответствующей личным чувствам" (17; р. 9). В соответствии с представлениями авторов этого рода произведений: в зависимости от того, видят ли они себя преимущественно общественными фигурами и тогда их интересуют главным образом взаимоотношения с внешним миром, или же для них первостепенный интерес представляют их личные чувства и переживания,— дневники распадаются на два основных типа. Один, тяготеющий к подробному воссозданию событий в жизни автора, сосредоточен на описании его общественного пути и социальной роли, другой — интимный, погруженный в глубины психики автора, сосредоточен на его духовном пути. Какой бы субъективностью суждений ни был отмечен первый тип, он всегда тяготеет к истории. Его примером в Новой Англии служит "Дневник" Джона Уинтропа, не случайно получивший от издателей название "История Новой Англии". И какой бы объективностью наблюдений и выводов ни отличался второй, он всегда погружен в мир субъективности. Его примером может быть "Дневник" Шепарда.

Сэмюэль Сьюолл. Гравюра начала XVIII в.
Знаменитый "Дневник" Сэмюэля Сьюолла (Samuel Sewall, 1652—1730) находился посреди этих двух типов дневников, причудливо сочетая черты того и другого.
Сьюолл родился в Англии и был в девятилетнем возрасте привезен родителями в Америку, где получил хорошее образование. В 1671 г. он закончил Гарвард, где учился вместе и даже жил в одной комнате с Эдвардом Тэйлором, другом которого он остался и с которым переписывался до конца дней; он преподавал в Гарварде и в 1674 г. получил там степень магистра. Сьюолл принял сан священника, но в конце концов предпочел деловую и коммерческую деятельность, к которой его склоняли и семейные традиции.
включая "Путь паломника" Дж. Бэньяна. Вскоре он превратился в весьма заметную и влиятельную фигуру и был избран членом суда. С этим связана одна из самых драматичных страниц в жизни Сьюолла — участие в сэйлемском процессе в 1692 г. Его дневниковые записи, относящиеся к этому событию, носят эзотерический характер, и по ним трудно установить отношение Сьюолла к процессу, хотя более ранние записи свидетельствуют, что он, подобно большинству современников, верил в колдовство. Однако в день казни нескольких жертв, он отметил впечатление, произведенное на публику речью одного из казненных, который убеждал собравшихся в своей невиновности. В другой раз Сьюолл записал, что посетил Томаса Дэнфорта, открыто протестовавшего против суда над ведьмами, и беседовал с ним о колдовстве. Спустя пять лет, в 1697 г., он выступил в церкви с публичным покаянием в связи с участием в этом процессе, кратко изложив в "Дневнике" содержание записки с признанием, которую он передал священнику.
"Дневник" (Diary) с 1674 по 1729 г., оборвав его за год до смерти. Сюда он заносил важные события в жизни Бостона и всей колонии, в своей личной жизни, а также всевозможные мелочи повседневного существования. На многих страницах отражены глубокие переживания, связанные со смертью жен и детей Сьюолла, оскорблениями, которые ему пришлось перенести, и публичным унижением, от которого его не защитило высокое общественное положение. Вместе с тем тут находится место и для описания его ухаживаний перед третьей женитьбой за мадам Уин-троп, которой он приносит в подарок проповеди й орешки в сахаре, не забывая отметить в дневнике расходы до последнего пенни. Семидесятилетний старик то спорит со своей дамой сердца о расходах на карету, которую он для нее содержит, то просит снять лайковую перчатку, потому что ему приятнее поцеловать дамскую ручку, чем мертвую козу. Ситуации, описываемые Сьюоллом, исполнены как характерных примет времени, так и юмора, которым так редко радовали читателя пуританские авторы. В их сочетании непроизвольно возникла своеобразная повествовательная структура, сюжет которой еще не мог отделиться от самой жизни.
Тщетно* было бы искать подобные детали на страницах дневников и Уинтропа, и Шепарда. Их появление у Сьюолла, равно как и их вкрапление в более традиционный по характеру материал, показательно. Эта пестрая смесь отмечает те изменения, что произошли в пуританском сознании со времени основания первых поселений. Оно явно утрачивало былой ригоризм, хотя до разрыва с пуританской доктриной было еще очень далеко. Многие записи рисуют Сьюолла как истинного пуританина, поклоняющегося суровому пуританскому Богу, чьи "послания" он всегда внимательно читает, рассматривая происходящие события как предупреждения или наказания за грехи. Многие исследователи считают "Дневник" Сьюолла шедевром этого жанра, хотя мнение это нередко оспаривается. Несомненно, однако, что он представляет большую ценность как документ своей эпохи, запечатлевший не только исторические события, но и самобытную личность автора, в которой преломились особенности пуританского сознания на стыке XVII и XVIII веков, развивающегося одновременно под знаком воинственной пуританской набожности и века Разума.
Из других сочинений Сьюолла заслуживает внимания трактат, которому он дал длинное латинское название, сопроводив переводом на английский, "Несколько строк к описанию Нового Неба, как оно представляется тем, кто стоит на Новой Земле" (Some few Lines towards a Description of the New Heaven, As It makes to those who stand upon the New Earth, 1697), где рассказывалась история Реформации. Любопытно, что в этом произведении он пытался ответить на вопрос, отчего невозможно возвести в Америке Новый Иерусалим, отражая в самой постановке вопроса сдвиги в пуританском мышлении. Трактат представляет и чисто литературный интерес с точки зрения его выразительного стиля, совсем не схожего с дневниковыми записями. В одном случае стиль интересен непосредственностью впечатления, в другом — предлагает результат тщательной работы над слогом, выдержанным в традициях высокого красноречия.
"Продажа Иосифа" (The Selling of Joseph, 1700), в котором он выступил против рабства и работорговли. Хотя он и привлекал в качестве аргументов ссылки на Священное писание, а также говорил о духовном спасении черных рабов, которое несколько лет спустя избрал главным доводом в своем трактате Коттон Мэзер, Сьюолл в сущности выдвинул в центр проблему свободы. В первой части трактата доказывалось, что все потомки Адама и Евы являются их равными наследниками и потому должны в равной мере обладать свободой, дарованной им Богом. Используя образ Иосифа, проданного братьями в рабство, Сьюолл метафорически давал негативную оценку действиям тех, кто обращал в рабство африканцев, поскольку библейский эпизод продажи Иосифа в богословской литературе неизменно интерпретировался как безнравственное, жестокое и противное Богу деяние. Более того, он не мог не знать традиционной параллели между Христом и Иосифом, проводимой на основе метода "типологии" и часто использовавшейся в различных ново-английских текстах. В результате — через Иосифа — черный раб уравнивался также и с Христом, что было весьма дерзкой мыслью для того времени, а само рабство трактовалось как одно из гнуснейших преступлений. Во второй части Сьюолл прибегал к аргументации иного рода, доказывая, что с экономической точки зрения выгоднее заводить на время белых слуг, чем пожизненно владеть черными рабами, хотя и соглашался признать, что лишь немногие из освобожденных рабов смогли с толком воспользоваться своей свободой. Наконец, в третьей части он критически рассматривал аргументы в пользу рабства тех, кто ссылаясь на Ветхий Завет, объявлял африканцев потомками племени Хама, в библейские времена пребывавшего в рабстве, и потому оправдывал рабство негров в Америке как естественное и привычное условие их существования. Это был первый трактат, написанный в американских колониях против рабства, и Сьюолл по праву может считаться родоначальником важной традиции в американской литературе. Осуждая институт рабства и утверждая право черных рабов на свободу, он, безусловно, шел против общепринятого мнения, силы которого возрастали благодаря корпоративности мышления, заручавшегося санкционированной поддержкой со стороны теократии.
Сьюолл не был, однако, единственным, кто на протяжении XVII в. осмеливался вступать в спор с пуританской общиной или бросать вызов ортодоксальной пуританской мысли.
"Историю Плимутского поселения", он включил в нее, в частности, вопросы и обвинения, направленные в его адрес побывавшими в Плимуте людьми, на которые его просил ответить один из английских корреспондентов. Первым среди них значилось обвинение в существовании религи-. озных разногласий. Ответ Брэдфорда был тверд: "Таковые нам неведомы, ибо с самого приезда нашего никаких контроверз и несогласий, ни публичных, ни приватных (насколько нам известно) не было"18.
Скорее всего, что тогда так оно и было. Едва ли Брэдфорд мог предположить, что всего через несколько лет "контроверзы" потребуют его вмешательства как губернатора и что о них он расскажет на страницах своего дневника.
—1647)19. Надо, впрочем, заметить, что хотя территориально этот конфликт развертывался в Новой Англии, по своему содержанию он отражал не внутренние противоречия пуританства, а столкновение разных по направлению культурных традиций, которые стремились утвердить здесь первые поселенцы: пуританской и ренессансной. Прибыв в Америку в 1624 г. с одной из первых партий колонистов, Мортон попытался перенести в Новую Англию традиции елизаветинской Англии. Напоминая жизнелюбием славного сэра Джона Фальстафа, он устаивает яркие празднества в своей усадьбе на Веселой Горе, отдавая дань обычаям "старой доброй Англии", и не питает ни интереса к пуританскому учению, ни почтения к духовным пастырям колонии, уловившим в Мортоне угрозу еще не давшему прочных корней на новой почве пуританству. После того, как на Веселой Горе был "по старому английскому обычаю" воздвигнут майский шест и "наварили бочку отменного пива и принесли ящик бутылок и добрую снедь для всех, кто пожалует в этот день" (1; р. 71), Мортон был схвачен и выслан в Англию, что впоследствии повторилось еще дважды. Во время одного из таких насильственных посещений родного края он выпустил в Амстердаме книгу "Ново-английский Ханаан" (1637). В своей остро сатирической по тону книге Мортон рисует выпавшие на его долю злоключения, язвительно высмеивая пуритан, презирающих радость и человеческое счастье. В его изображении это жестокие, тупые, невежественные и неискренние люди, для которых благочестие — маска, скрывающая нечестивую алчность ("сепаратисты, завидуя процветанию и надеждам Веселой горы, которая, как они заметили, начала выходить вперед и дела тут шли хорошо благодаря прибыльной торговле бобрами, сговорились против моего хозяина..." (1; pp. 73—74).
Мортон потешается над ограниченной ученостью пуритан, их враждебностью знанию, приверженностью к схоластике, недоверием к природе — вместилищу греха. Так, увидев майский шест, пишет он, намеренно сгущая краски,— "некоторые из них утверждали, что впервые он был установлен в память о какой-то блуднице, не ведая того, что это символ, воздвигавшийся вначале в честь Майи, Покровительницы знания, которое они презирают, понося оба университета грубыми словами и утверждая, будто все добытое там во время учения — знание никчемное, и не подозревая, что знание позволяет человеческому разуму обращаться к элементам более возвышенного рода, нежели те, что обретаются в обители Крота" (пуритан — М. К.)20.
остров без пропитания и укрытия, где он и умер бы голодной смертью, не приди ему на помощь индейцы.
"Ново-английский Ханаан", где автор широко использует образы античной мифологии, литературы и истории, обнаруживает связь с традициями ренессанской культуры. На страницах книги упоминаются троянский конь и бочка Диогена, Юпитер с виночерпием Ганимедом, Эдип, Гидра времени и многие другие античные персонажи и образы. Неплохо знаком Мортон и с литературой современной, о чем красноречиво говорит, например, сравнение действий снаряженного против него отряда со сражением Дон Кихота с ветряными мельницами,— роман Сервантеса лишь незадолго до этого увидел свет в английском переводе. Возможно, Мортон и почерпнул эти знания из вторых рук, тем не менее важно, что, оказавшись в пуританском окружении, он пытался воссоздать атмосферу ренессансной культуры, осколок которой занес в американскую "пустыню".
К этой традиции можно отнести и помещенные в книге поэтические тексты, которые вместе с живыми картинами празднеств составляют второй план книги Мортона, противопоставляющего унылому миру "Крота" окрашенную в идиллические тона жизнь Аркадии на Веселой горе. Одно из таких стихотворений — песня в духе народной английской поэзии, славящая радости бытия и весеннее пробуждение природы. С ней соседствует стихотворение, написанное в ученой традиции, также, видимо, хорошо знакомой Мортону. Оно тоже связано с темой прихода весны, завершаясь призывом отпраздновать майский день. Не блещущее особыми поэтическими достоинствами, стихотворение это любопытно прежде всего широким обращением к античной мифологии. В нем упоминаются мрачный Нептун, тритон, "Амфитрита дорогая", "существа, подобные Протею". Автор, по-видимому, им был сам Мортон, клянется "прелестной матерью Купидона".
Ренессансной традиции не суждено было утвердиться в Америке. В это время она переживала острый кризис и в самой Англии, так что новые волны эмиграции лишь укрепили позиции пуританства в Новом Свете. Исследователи часто считают представителем этой традиции также и Натаниэля Уорда (1578—1652), автора "Простого сапожника из Аггавама" (1647), но по существу для этого мало оснований. Такая оценка строится главным образом на метком, "неотесанном" слоге прозы Уорда, обильно сдобренной грубоватым юмором и сочными выражениями в народном духе, но за его не просто богатым, в перенасыщенным всевозможными тропами, необычайно активным в своей образности стилем, далеким от пуританского идеала простоты, нет характерной для эпохи Возрождения любви к жизни и широты мышления. Его выпады направлены на защиту все тех же пуританских догм и устоев, которые так истово охраняли ревнители пуританской ортодоксии. С Мортоном ренессансная традиция, не успев укорениться на новой почве, заглохла в Новой Англии на два столетия. Задачу оживить ее и приобщить к ней отечественную литературу взяли на себя американские романтики.
С тех пор полемика с пуританством велась исключительно в теологических категориях. Как и по отношению к представителям иных конфессий: квакерам, антиномианцам и т. д.,— пуритане проявляли крайнюю нетерпимость к инакомыслящим, появлявшимся в их собственной среде. К ним применялись жестокие телесные наказания, широко практиковалось изгнание неугодных из общины. Такое решение было принято в отношении Анны Хатчинсон, осмелившейся говорить о прямом, без посредничества служителей церкви, общении с Богом. Она была изгнана из колонии и вскоре погибла в дебрях от рук индейцев.
—1683), выдающийся мыслитель и политический деятель Новой Англии, радикальнейший из всех критиков теократии. Отмечая значение Р. Уильямса и Томаса Хукера, Паррингтон писал: "Не следует забывать, что демократические учения и институты, которым суждено было широко распространиться в позднейшие годы и создать неповторимый облик Новой Англии, любовно хранимый в памяти последующих поколений, зародились не в Массачусетсе, а в Коннектикуте и в Род-Айленде" (имеются в виду колонии, которые были основаны Уильямсом и Хукером, вынужденными покинуть Массачусетс.— М. К.; 5; с. 98).
Роджер Уильяме родился в Англии в семье лондонского портного и торговца тканями. Несмотря на скромное происхождение, он получил блестящее юридическое образование, окончив Кембридж, где его учителем был знаменитый правовед Коук, но предпочел духовную карьеру. Довольно рано он пережил духовное обращение и принял пуританство, благодаря чему в 1629 г. познакомился с Томасом Хукером и Джоном Коттоном, последний из которых стал впоследствии одним из его главных идейных противников. Идеи пуританства глубоко запали в душу Роджера Уильямеа. По его убеждению, Реформация, которая привела к разрыву с католицизмом, не довела дела до конца — до восстановления "истинной церкви". Для этого необходимо, чтобы она вновь стала такой, какой была во времена апостолов. Этот религиозный максимализм послужил основой сближения Роджера Уильямеа с одним из наиболее радикальных направлений в английском пуританстве — левеллерами, а впоследствии его воззрения, в свою очередь, оказали влияние на многих видных деятелей Английской революции, в том числе на Мильтона.
Ряд ключевых положений учения Роджера Уильямеа сложился под воздействием доктрины тысячелетнего царства Христова. Как отмечает американский исследователь У. Кларк Гилпин, следование этой доктрине означало для пуританина "его всестороннюю религиозную ориентацию: понимание провиденциального развития мировой истории, образ идеального человеческого общества и чувство личной ответственности перед человеком и Богом"21.
В близкое наступление царства божия уверовали многие пуританские проповедники в Англии, где эсхатологические настроения получили широкое распространение в первой половине XVII в. Настроения эти подогревались ощущением надвигающейся катастрофы, поскольку согласно библейским предсказаниям второму пришествию должен был предшествовать конец света, который, очистив мир от скверны, подготовит его к явлению Христа. Назревавший революционный взрыв безошибочно предвещал такой конец, подтверждая в глазах верующих обоснованность ожиданий и необходимость скрупулезно готовить к этой встрече свою душу, беспощадно искореняя в себе неправедное и порочное.
"очевидно в опубликованных им трудах как религиозная ориентация, исходя из которой он подходил к отдельным вопросам религиозных разногласий", и по-настоящему понять его "представления о церкви, государстве и религиозной свободе" можно лишь в свете этих воззрений (21; р. 13).
отзывам современников, необычайно кроткий, он принес в Америку, куда отплыл в декабре 1630 г., дух непокорности и бунта. Здесь его религиозный радикализм, выразившийся, в частности, в требовании полного разрыва с англиканской церковью, привел вскоре к конфликту с властями Массачусетса. Хотя разногласия возникли на почве религиозных убеждений, они не ограничились сферой теологии. Религия не была для Роджера Уильямса чем-то замкнутым в самом себе, обособленным от остальной жизни. Религиозные идеи, которые он исповедовал, были смысловым стержнем, формирующим жизнь человека во всех ее проявлениях, от великих до незаметных или вовсе ничтожных.
Следовать за Роджером Уильямсом по этому пути готов был далеко не каждый житель колонии при всей набожности и заботах о спасении души. Администрация же усматривала во многих его высказываниях и действиях прямой подрыв существующего порядка. Их первое столкновение сразу приняло серьезный оборот: Роджер Уильяме отверг право колонистов владеть отторгнутой у индейцев землей, представив в 1633 г. в суд трактат, специально посвященный этому вопросу. В этом не сохранившемся сочинении он доказывал, что английский король не может использовать исповедание христианства в качестве обоснования для выдачи хартий и последующего изъятия земель у законных владельцев, так как индейцы — язычники и на них не распространяется власть христианского короля. Единственным законным решением вопроса была, в его понимании, покупка земли у аборигенов.
Трактат вызвал сильное недовольство властей, разбирательство длилось два года, и в 1635 г. суд вынес приговор о насильственном выселении Роджера Уильямса из колонии и возвращении в Англию, как это уже было сделано с Т. Мортоном. Роджер Уильяме избежал той же участи, спасшись бегством. Он не погиб, найдя укрытие в зимнюю стужу в индейских поселениях. С горсткой единомышленников он основал затем поселок, которому дал название Провиденс (Провидение; впоследствии — центр колонии Род-Айленд). Роджер Уильяме поддерживал тесные отношения с индейцами, которые были настолько дружескими, что индейцы отказывались вести переговоры и заключать какие-либо соглашения в его отсутствие. Как посредник он сыграл значительную роль в урегулировании отношений во время войны с пекотами. Сам Роджер Уильяме не ограничивался наблюдениями за жизнью и нравами аборигенов, но изучал их язык, не бросив этого занятия до конца жизни. Это позволило ему глубже понять их обычаи, верования, культуру.
которых революция поставила во главе страны. Во время двухмесячного плавания он создает книгу "Ключ к языку Америки" {A Key into the Language of America), которая вышла в Лондоне в 1643 г., став его первым опубликованным сочинением.
Основой этой небольшой по размеру книжечки послужили записи, которые Роджер Уильяме вел на протяжении многих лет. Она разбита на тридцать две главы по тематическому принципу, отражая в них различные аспекты жизни аборигенов: домашнее хозяйство, управление, религиозные представления, занятия и т. д. Часть каждой главы построена как словарь. За словами и выражениями, которым даются английские эквиваленты и которые расположены так, чтобы можно было с помощью книги вести беседу, следуют основанные на личных впечатлениях автора пояснения — описания жилища, обычаев, ритуалов, одежды и т. д., пересказы индейских преданий, рассказы о происшествиях, случившихся с ним или в его присутствии. Нередко Уильяме сопоставляет англичан и индейцев, причем сравнение далеко не всегда складывается в пользу "носителей цивилизации": дикари зачастую превосходят поселенцев душевными качествами (гостеприимством, обходительностью и т. п.). Тем самым автор показывает, что христиане предали забвению христианские истины, сохранив лишь внешнюю оболочку. Главы завершаются общими рассуждениями морального и религиозного характера и стихотворением на ту же тему.
из первых в таком роде, тем более, что аборигены не имели собственной письменности. Его целью было определение принципов, которые могли бы послужить основой для строительства взаимоотношений поселенцев с истинными владельцами континента, в противовес практикуемым,— их он решительно отвергал как неправедные. Роджер Уильяме включился, таким образом, в длившуюся уже полтора столетия полемику об индейцах. Трудно сказать, в какой мере он был осведомлен о ней в широком плане, равно как и о высказанных в ее ходе суждениях, но он несомненно знал, что распространение христианства среди аборигенов служило как в Северной, так и в Южной Америке одним из главных обоснований колонизации. В силу названных выше причин согласовалась деятельность по крещению индейцев и с проповедью приближения тысячелетнего царства Христова, поскольку его наступлению должно было также предшествовать обращение в христианство иудеев и язычников. Неудивительно, что Роджер Уильяме и сам отдал дань этим умонастроениям и на протяжении 30-х годов XVII в.— и до, и после изгнания из Массачусетса — проповедовал христианство среди аборигенов. На переломе 30-х — 40-х годов его взгляды на эту проблему существенно меняются. Он склоняется к мысли, что поскольку истинной церкви не существует, надо отказаться от обращения индейцев в христианство, так как крещение не приобщит их к истинному христианству. "Крещение не создает христианина" (1645?, 1646?) — такое заглавие он дал своей книге, написанной примерно в то же время, что и "Ключ к языку Америки", с предельной ясностью выразив свое понимание проблемы. В соответствии с ним, претворяя свою мысль в дело, Роджер Уильяме и сам перестает исполнять церковные обряды. С тем большей убежденностью и решительностью отвергал он насильственное обращение индейцев в христианство. Оно, не уставал напоминать Роджер Уильяме, будет чисто внешним, поверхностным, не затронет души, тогда как у новообращенного она должна родиться заново.
Забота о спасении души составляет содержание и помещенных в книге стихов, отвечающих ее общей направленности. Подобно другим ново-английским авторам того времени, Роджер Уильяме писал их не ради достижения эстетического эффекта, а ради нравственного просвещения читателя, однако его стихи не лишены поэтических достоинств. Их отличает ясность мысли, безыскусная простота слога, естественность интонации, строгий, несколько аскетический тон; вместе с тем нравственное наставление не переходит в плоское морализаторство.
Мой всюду видит взор.
Большие рыбы малых рыб
Спасенья нет нигде.
Их ждет индеец, гибель ждет
На суше и в воде.
— удел
Завиден малых сих:
И поглотят они тогда
Гонителей своих.
они связаны с нравственными ценностями христианства: это чистота веры, необходимость нравственного совершенствования, бренность земного бытия, призрачность мирских благ перед лицом высшей истины, справедливость воздаяния каждому в час предстания перед Господом, составляющие общее достояние английской медитативной лирики XVII в. На фоне этой поэзии его выделяет появление элементов, связанных с американской действительностью. Уильяме не делает ни малейшей попытки изобразить окружающий мир, лишь называя его отдельные отличительные черты, но в его стихах уже найден один из знаков собственно американской действительности, ее характернейшая примета: индеец. Он вводится в поэзию Уильямса не как таковой. Индеец интересен автору исключительно как антитеза англичанину. Понятно, что в данном контексте поэт определял этим словом не жителя "старой Англии", а колониста — юное американское самосознание еще не почувствовало в то время даже желания оторваться от старой сущности. С помощью такого противопоставления поэт стремился прояснить для читателя нравственный посыл стихотворений и книги в целом.
Сын Англии, не мни, что род твой славен..
Индеец — брат тебе и родом равен.
Единый разум, силу, кровь и плоть.
Гнев, коль в Христе не будет дух спасен.
Куда войдет дикарь, не повернуть назад.
(перев. автора)
22— равенство естественного состояния. Разница же меж ними в том, что англичанину были в свое время открыты истины, которые вывели его на путь спасения, но, уверовав в свою предызбранность, он предал их забвению. Уильяме предупреждает слепого в своей гордыне англичанина, что живущий в неведении божественной благодати дикарь в день Страшного суда сможет по милости божией войти в рай, тогда как англичанину, пренебрегающему открытой ему истиной, будет отказано в вечном блаженстве. Так, задолго до просветителей, выдвинувших идеал "нового человека", воплощенного в образе благородного дикаря, в создававшуюся в Америке литературу вошла тема, которая позволила на сугубо американском материале поставить извечный вопрос о подлинной человеческой сущности.
Исключительно важную сторону деятельности Роджера Уи-льямса составляла борьба с религиозной нетерпимостью пуритан. Проповедь веротерпимости, а вернее, свободы совести стоит в центре его основного труда — книги "Кровавый догмат преследования за убеждения" (The Bloody Tenent of Persecution, for cause of Conscience, discussed, in a Conference between truth and peace, 1644).
Этот религиозный трактат был написан во время пребывания Роджера Уильямса в Лондоне за довольно короткое время, но фактически он создавался на протяжении нескольких предшествующих лет, примерно с середины 30-х годов. В основу книги положены его заметки и записи, в том числе в виде откликов на публикацию сочинений или устные выступления на эту тему, ряд которых подвергнут в трактате тщательному анализу. Роджер Уильяме обильно цитирует их, пункт за пунктом и фразу за фразой рассматривая доводы противников свободы вероисповедания, с предельной наглядностью выявляя ошибочность их аргументации, чреватой неисчислимыми бедствиями для человека и человечества. Большое внимание уделено в "Кровавом догмате" Джону Коттону — здесь приведен полностью текст его ответа на обращение баптистов, чьи взгляды оказали заметное влияние на понимание Роджером Уильямсом идеи религиозной свободы. Вызванное преследованиями за веру и длящееся веками кровопролитие, с которым не может смириться Р. Уильямс, определило название его книги, созвучной по своим идеям трактату Мильтона "Ареопагитика".
Перечислив в кратком введении подлежащие рассмотрению вопросы, автор помещает далее обращение к английскому Парламенту, в котором определяет круг его прямых обязанностей: "После спасения ваших собственных душ (в прискорбном крушении человечества), ваша задача (как христиан) — спасение душ, а как Магистратов — Тел и Добра других"23"на шее англичан" все еще лежит "тягчайшее ярмо" в виде запрета свободы вероисповедания (23; р. 6). Их предшественники, английские короли, склоняясь то к католицизму, то к протестантству, предоставляли ее лишь своим единомышленникам, обрушивая гонения на противников. "... и во всех формах и реформах,— с горечью замечает он в другом месте,— Национальная Церковь естественных необращенных людей была (подобно воску) предметом всех этих форм и перемен, будь то папистских или протестантских..." (23; р. 345).
Р. Уильямс призывает Парламент, "подобного которому Англия не ведала никогда", прервать дурную бесконечность, дабы избежать упреков в том, что он "установил исповедание живому, вечному и невидимому Богу по склонности к какому-то земному интересу, пусть даже из наивысших под Солнцем побуждений. Говорил ведь сэр Фрэнсис Бэкон, человек ученый: "... Те, кто утверждает принуждение совести", руководствуются в том "некими собственными личными интересами" (23; р. 9). Поясняя в тексте замечание. Бэкона, Уильяме добавляет, что,. защищая будто бы интересы религии, "... эти Императоры и другие Государи и Магистраты действовали в Религии по наклонности собственной совести... Следовательно они принуждали своих подданных к соглашению и согласию со своей собственной совестью, хотя и не желали, чтобы их самих принуждали в делах, касающихся Бога и Совести" (23; р. 239).
Обращаясь затем к "любезному читателю", Уильяме начинает свои рассуждения с того, что отказывается признать правомерность преследований пуританами своих противников, отвергая ссылки на благородство их целей — защиту истинной веры. Никакая, а тем более истинная вера не может, как считает Уильяме, насаждаться насилием. Независимо от святости дела, которому служат гонители, убеждает он, насилие не может принести благих плодов. "Не все ли люди ненавидят притеснителя,— вопрошает Роджер Уильяме,— и не всякое ли сознание будь то истинное или ложное, ропщет противу жестокостей, тирании?..." (23; р. 11).
За исключением вводных разделов, " Кровавый догмат" написан в виде диалога Мира и Истины. Диалогизированная форма, часто употреблялась в теологических и философских сочинениях задолго до Уильямса. В его книге она отнюдь не призвана придать изложению драматизм, ввести элемент образного претворения идеи, но она несомненно усиливает эмоциональную окрашенность изложения. Вместе с тем она побуждает автора избегать чрезмерного усложнения текста, повышает его доходчивость, а главное позволяет высветить в чередовании их высказываний, развиваемых по принципу тезис/антитезис, суть рассматриваемой проблемы.
совершенно очевидно при сопоставлении с ней "Кровавого догмата".
аспекты. Тень учителя появляется и в тексте "Кровавого догмата", выводя за собой другую тень — тень королевы Елизаветы, чью эпоху его современники-пуритане ставили чуть ли не рядом с языческими временами. Уильяме находит для Елизаветы добрые слова: "МИР. Возлюбленная Истина, мне известно твое рождение, твоя природа, твоя радость. Те, кто знает тебя, ценят тебя много выше себя и своей жизни и продадут себя, чтобы купить тебя. Хорошо сказала та знаменитая Елизавета своему знаменитому советнику, сэру Эдуарду Коуку: "Господин советник, продолжайте так, как начали, и все же не ссылайтесь pro Domina Regina, но pro Domina Veritate* **(21; pp.»56—57).
Служение Госпоже-Истине Р. Уильямс поставил во главу угла всей своей деятельности. Он не угождал сильным мира сего, но и не позволял чувству мести или обиды взять верх над его разумом. Бунтарство и непримиримость этого, по определению Паррингто-на, "самого мятежного и самоотверженного человека в Америке" (5; с. 123), сочетались с подлинной любовью к человеку и верой в возможность если не единения, то по крайней мере мирной жизни людей, которая обнимала другие народы, расы, верования.
Роджер Уильяме видит в идее веротерпимости единственное условие мирного существования любого государства. Он доказывает, что состояние духовное и гражданское — это отдельные, не совпадающие в своих границах сферы, подтверждая свою мысль многочисленными экскурсами в историю (23; pp. 202—206, 224—225 и др.). Из этого с непреложностью вытекает, что дела духовные не подлежат рассмотрению со стороны светских властей, а методы разрешения возникающих на этой почве разногласий не могут быть мерами пресечения, применяемыми в гражданских делах. Соответственно меры, принимаемые церковью, также не должны воплощаться в аналогичные материальные формы и могут распространяться лишь на людей, принадлежащих к ней, но никак не тех, кто вне ее (т. е. иноверцев). По убеждению Р. Уильямса, вмешательство светской власти в духовные дела равносильно использованию "Гражданских Властей и Правителей Мира как Стражников у Духовного Ложа блуда Души, на котором цари Земные творят прелюбодеяние Духовное с великою Блудницей..." (23; р. 263).
Эта историческая параллель ошибочна, по мнению Р. Уильямса, еще и потому, что народ Израиля был по своему составу единым, вышел весь из одного лона во всех своих двенадцати коленах, тогда как современные нации по большей части смешанные, "особенно же народ Англии: британцы, пикты, римляне, саксонцы, датчане и норманны чудесным промыслом Божиим стали одним, английским народом" (23; р. 323).
на язычников. "Две горы вопиющей вины",— пишет он, лежит на всех гонителях, за "... кровавые, несовместные с религией и бесчеловечные притеснения и разрушения, творимые под маской или покровом имени Христова и т. д." (23; р. 11).
Обосновывая этот тезис, Рождер Уильяме ссылается не на правовые нормы или исторические прецеденты — он находит доказательства в самой религии. Существование различных верований у различных народов он прочитывает как указание свыше: "Воля и повеление Бога и заключается в том, чтобы... самые языческие, иудейские, турецкие или антихристианские вероисповедания и поклонения были дозволены всем людям во всех Народах и Странах; и бороться с ними следует тем Мечом, который один (в делах, касаемых Души) способен победить, а именно Мечом Духа Божия, Словом Божиим" (23; р. 3).
"неверных", стремящиеся всеми силами избавиться от скверны, очиститься, поступают не только явно неразумно, продолжает Р. Уильямс ("Словно бы оттого, что сорнякам, терниям и чертополоху, возможно, не место в Церковном Саду, их всех надобно повыдергать и в Пустыне"), они еще и слепы: сегодняшний сорняк, "т. е. иудей, турок, язычник, антихристианин, может (когда разнесется свободно Слово Господне) стать завтра ветвью Иисуса Христа, срезанной с дикой Оливы и пересаженной на истинную" (23; р. 95). Коль скоро ни одному человеку не дано знать предначертания свыше, душа, освободившись из плена духовной слепоты, пережив истинное обращение, заключает Р. Уильямс, будет поступать прямо противоположным образом: будет терпеливою, будет молить за других, будет "стремиться (по мере сил) к тому, чтобы они сподобились его милости и милосердия" (23; р. 93).
Положение о несовместимости с религией притеснений, творимых именем Христа, Р. Уильямс внес в число двенадцати тезисов, выдвинутых против доктрины преследования в пользу веротерпимости. Отверг он и идею насильственного насаждения единоверия. Облекая свою мысль в теологические покровы, Уильямс по существу отстаивает демократические принципы общественной организации: "Бог не требует, чтобы единоверие учреждалось и насаждалось в каком бы то ни было гражданском государстве насильственным путем, ибо навязанное единоверие (рано или поздно) есть величайшая причина гражданской войны, поругания свободы совести, преследования Иисуса Христа в слугах его и лицемерия и растления миллионов душ" (23; pp. 3—4). Здесь же формулирует он и принцип независимости сознания от государственных институтов, обосновывая требование невмешательства государства в вопросы веры и сознания. "Как доказано, все государства с их органами юстиции по своим конституциям и уложениям есть в сущности государства гражданские, и потому не являются Судьями, Правителями или Защитниками государства Духовного, или Христова, и Веры" (23; р. 3).
Подобными идеями пронизано и "Обращение к городу Провиденсу" (1654). Свои представления об идеальном государстве Роджер Уильяме воплотил в этом послании в выразительном образе корабля, использованном ранее в "Кровавом догмате". На его борт поднимаются "паписты и протестанты, евреи и турки" — здесь никто не вправе навязать никому ни своей веры, ни формы культа.
"Кровавом догмате", имели огромное значение для формирования американского национального самосознания. По существу в нем были впервые теоретически обоснованы принципы гражданского общества Нового времени: свободы совести и разделения церкви и государства, ставшие впоследствии основой американской государственности. Исходя из теории ковенанта и народного суверенитета, Р. Уильямс развил глубоко демократическую теорию государства, явившуюся в этом плане предвосхищением: просветительских учений. Он считал, что "... суверенитет — источник и основа гражданской власти — принадлежит народу..., (что) народ вправе создавать и учреждать у себя такую форму правления, которая покажется ему наиболее соответствующей его гражданскому состоянию. Отсюда следует, что такие правительства, созданные и учрежденные народом, не обладают никакими иными полномочиями, помимо тех, что предоставляет ему гражданская власть, т. е. народ, выражающий свое согласие быть управляемым на определенный срок" (23; pp. 249—250).
в важнейших документах молодой республики — Билле о правах и Конституции.
Однако противников у Роджера Уильямса было немало, и не только в Новой Англии. Трактат вызвал столь большое возмущение среди церковников, что книга была предана в Лондоне сожжению, чем, по-видимому, отчасти, объясняется выпуск в том же, 1644 г., ее второго издания, а несколько лет спустя третьего. Джон Коттон продолжил полемику, опубликовав свой "Кровавый догмат, отмытый добела в крови Христа" (1652), в котором вновь отстаивал доктрину преследования. Через два года Р. Уильямс выпустил в свет "Кровавый догмат, еще более окровавленный" (1654), где, развивая идеи веротерпимости и религиозной свободы, показывал несостоятельность позиции Коттона.
По словам Паррингтона, богам вздумалось "подшутить над Роджером Уильямсом, послав его на землю до того, как приспел его час" (5; с. 109). В его личной судьбе это сыграло роковую роль — он остался непонят и непринят современниками. Упорно держась пуританской ортодоксии, они мало восприняли из учения Уильямса. Но в перспективе развития американского самосознания, американской общественной мысли и литературы роль Роджера Уильямса завидна и почетна: воспитанный на идеях Реформации и Английской революции, он стал предвестником демократических идей революции Американской, скрытой от него за далью полутора столетий.
К демократическому направлению в пуританстве принадлежит, несомненно, и Джон Уайз (John Wise, 1652—1725). Независимый нрав нередко приводил его к столкновению с властями, в частности с ненавистным всем королевским губернатором Андросом, который распорядился, чтобы Уайза как зачинщика и вдохновителя волнений посадили в тюрьму. Уайз был ярым сторонником конгрегационализма, выступал с его защитой как в своих проповедях, так и в печатных трудах. В 1713 г. он опубликовал трактат "Ввязываясь в церковный спор" (The Churches Quarrel Espoused), в котором ядовито высмеивал предложения, исходившие от группы священников во главе с Коттоном Мэзером, по созданию в Новой Англии ассоциаций священнослужителей, которые расширили бы их права за счет прав отдельных конгрегации. В том же сатирическом ключе он снова выступил с защитой принципов конгрегационализма в 1717 г., выпустив брошюру "Защита управления ново-английских церквей" (A Vindication of the Government of New England Churches), где для удобства изложения разбил свой материал на пять групп. Он подкреплял свои теории примерами из античности, естественного права, Священо-го писания, а также ссылками на устройство колоний. Рассмотрев все формы правления, от монархии до демократии, Уайз приходит к выводу, что "Поскольку цель всякого хорошего правительства — это развивать Человеческий род и Продвигать счастье всех", демократия — это такая форма правления, которую "выше всего ценит Свет Природы" (6; р. 371).
"наилучшего правления" совершает полный оборот вокруг идей, высказанных на заре существования Новой Англии Джоном Уинтропом, который тогда отверг идею демократии, представив ее как наихудшую форму правления! Обращение Уайза к категориям естественного права, существенно расширив и дополнив систему аргументации по сравнению с традиционной, свидетельствовало в то же время об изменениях в пуританском мировосприятии.
Сочинения Уайза внесли в американскую литературу новую струю не только своей демократической направленностью, но и выразительным слогом, изобиловавшим здоровым деревенским юмором, сравнениями и метафорами, взятыми из повседневного житейского опыта, которые находили прямой путь к сердцам его слушателей. Подчас его мысль совсем сбрасывала теологические покровы и говорила на точном языке рационализма.
И Уинтроп с Ричардом Мэзером, и Джон Уайз ставили во главу угла принцип конгрегационализма. Однако деятелей начального периода это приводило к утверждению теократии и страху перед демократией. Уайз, напротив, всячески боролся с теократией ради утверждения демократии. Развитие пуританства, которое пролегло между двумя этими точками, говорит об утратах, с которыми оно входило в новый век. В преддверии его в самом пуританстве обнаруживались новые черты, в том числе строгий рационализм века Разума. Однако они не столько способствовали его приспособлению к требованиям этого века, сколько подтачивали его изнутри, исподволь готовя его близкий закат как ведущего направления в духовной, социальной и политической жизни Новой Англии.
ПРИМЕЧАНИЯ
"общее благо", переводится обычно как "республика" или "содружество" (напр, в словосочетании "Британское содружество наций").
*** на Госпожу-Королеву — на Госпожу-Истину (лат.)
1 Pioneer Literature. Colonial Prose and Poetry. First Series. Ed. by W. P. Trent and B. W. Weils. N. Y., Thomas Y. Crowell, 1903, p. IX.
3 Подобным образом истолковано положение дел, к примеру, в обширной статье американского исследователя Ф. Гуры. По его мнению, современное состояние исследований в области литературы американских колоний свидетельствует о своего рода "ново-английской экспансии", в результате которой "литература определенных регионов внутри Британо-американской империи не получила надлежащей оценки", а также о том, что "несмотря на все возрастающее осознание некоторыми исследователями нерелигиозных форм дискурса, изучение колониальной американской литературы, особенно в ее новоанглийской фазе было исполнено интереса прежде всего к религиозному языку и символу" (Philip A. Gura. "A Study of Colonial American Literature, 1966—1987: A Vade Mecum". William and Mary Quarterly, 1988, April, p. 308).
5 Паррингтон В. Л. Основные течения американской мысли. М., 1962, т. 1, с. 56, 44.
— 1734. Ed. by Emory Elliott. Detroit, Michigan, Bruccoli, Clark, 1984, p. 9.
7 Цит. по: Bercovitch S. The Puritan Origins of the American Self. New Haven and L., Yale Univ. Press, 1975, pp. 188, 187—188.
8 American Literature Survey. Colonial to Federal: to 1800. Ed. by Milton R. Stem and Seymour L. Gross. N. Y., Viking Press, 1973, p. 49.
11 The American Puritans. Ed. by P. Miller. Garden City, N. Y., 1956, p. 153.
12 A Library of American Literature. Ed. by Edmund Clarence Stedman and Ellen MacKay Hutchinson. N. Y., 1894, v. 1, p. 193.
13 Хейзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988, с. 318.
15 The Puritans in America. A Narrative Anthology. Ed. by Alan Heimert and Andrew Delbanco. Cambridge, Mass., L., Harvard Univ. Press, 1985, pp. 172, 173.
16 The Wall and the Garden. Selected Massachusetts Election Sermons. Ed. by A. W. Plumstead, Minneapolis, 1968, p. 28.
17 Elliott, Emory. Power and the Pulpit in Puritan New England. Princeton, New Jersey, Princeton Univ. Press, 1975, p. 7.
", Худ. Лит., 1987, с. 137.
"Хроники и описания. Формирование светской литературной традиции".
20 The Roots of National Culture. Ed. by R. S. Spiller and H. Blodgett. N. Y., MacMillan, 1949, p. 73.
21 Gilpin, W. Clark. The Millenarian Piety of Roger Williams, Chicago and L., Univ. of Chicago Press, 1979, p. 9.
нападения индейцев непременно "предательские", их ритуалы — "мерзкие и бесовские обряды" {Брэдфорд У., Франклин Б., Кревекер С. Дж. де. Цит. соч., с. 92, 93). Впрочем Мортон, который, по мнению соседей-пуритан, слишком милостиво обходился с индейцами, оставил другое свидетельство: собираясь выслать его в Англию, его противники "высадили моего господина на остров без ружья, пороха, дроби, собаки или даже ножа, чтобы добыть себе какое-нибудь пропитание, и безо всякой одежды, которая укрыла бы его в зимнюю пору, кроме той, что была на нем тогда. <...> На этом острове он пробыл по меньшей мере месяц, "и его положение облегчили индейцы, ... которые приносили ему бутылки крепких напитков и, объединившись с моим господином, создали братский союз; столь эти нечестивые превосходят в человечности христиан" (1; р. 79).
23 Williams, Roger. The Complete Writings. In 7 vv. N. Y., Russel and Russel, v. Ill, 1963, p. 11.