
ГЕНРИ ДЭВИД ТОРО
В истории американской литературы Генри Дэвид Торо (Henry David Thoreau, 1817—1862) занимает особенное место. Вряд ли кто-нибудь из его великих соотечественников вызвал столь противоречивую реакцию критиков, за исключением разве Эдгара По. Торо называли стоиком и эпикурейцем, анархистом и эстетом, ново-английский йогом и пантеистом, лесным отшельником и аболиционистом, непротивленцем и экономистом трансцендентализма. Такое разнообразие оценок не случайно, ибо талант писателя был многогранным, а личность его необычна.
Торо был автором публицистических речей в защиту Джона Брауна и философских книг, "Уолден, или Жизнь в лесу" и "Неделя на Конкорде и Мерримаке". Американские читатели конца века знали его в основном по отрывкам из эссе, книг и дневников, опубликованных в хрестоматиях под заглавиями "Последовательность деревьев", "Дикие яблони", "Прогулки", "Ранняя весна в Массачусетсе". Торо принадлежит ставшее знаменитым в XX в. эссе о гражданском неповиновении, во многом определившее деятельность Мохандаса Ганди и Мартина Лютера Кинга. Оно вдохновляло английских социалистов и рабочих в начале XX в. и борцов датского сопротивления в годы второй мировой войны. Торо считают своим предтечей те, кто занимается проблемами экологии, и те, кто борется за гражданские права. Среди его почитателей были Драйзер и Пруст, Синклер Льюис и Хемингуэй, Стивенсон и Йейтс, Шоу и Д. Г. Лоуренс, Хоуэллс и Фрост. Мысли Торо оказали влияние на писателей и мыслителей Востока и Запада и по сей день не утратили своего значения. К его творчеству в поисках этического идеала обращался Л. Н. Толстой. Разные грани его моральной утопии привлекают и писателей современной Америки.
В 1962 г. американский исследователь Шерман Пол писал, что настало время прочесть Торо заново, отказавшись от предвзятых мнений, застарелых предрассудков и привычных стереотипов, "нащупать твердый грунт текста"1"эс-кейпизме" Торо и "антисоциальности" его утопии. Анализ философских воззрений писателя и их художественного воплощения помогает увидеть в нем человека, посвятившего жизнь поиску истины в самом высоком смысле слова, философа, стремившегося увидеть невидимое в видимом, идеальное в реальном, вечное в преходящем. Он был человеком, жившим для общества, видевшим в этом смысл существования. В дневнике 1842 г. Торо писал: "Я с радостью передал бы людям все богатство своей жизни, отдал бы им все самое драгоценное, что у меня есть... У меня нет никакого личного достояния, которое я мог бы отдать людям, если не считать таковым мою способность служить обществу... Это моя единственная собственность"2.
Другим стереотипом, требующим пересмотра, является представление о Торо как писателе непоследовательном, отошедшем в последние годы от основной линии творчества. Была ли страстная защита Джона Брауна случайным эпизодом в жизни Торо? "Изменил" ли он себе, как утверждают американские исследователи Лео Столлер и Джозеф Крутч? Вопрос этот принципиально важен для понимания не только особенностей его мировоззрения, но и творчества писателей-трансценденталистов в целом. Представляется, что антирабовладельческие выступления Торо были закономерным и логическим развитием трансценденталистских идей в обстановке приближавшейся социальной бури. Писатель-гуманист, гражданин и борец, Генри Торо предвосхитил общественный подъем периода Гражданской войны. Радикализм и своеобразное реформаторство, однако, органично уживались в нем с мистицизмом, который был неотъемлемой чертой его мировоззрения. Трезвость мышления Торо, писателя и человека, не мешала ему, уединившись на лоне природы, воспринимать "божественное откровение". Одиночество Торо имело не только "мистическое", но и социальное значение. В самом общем смысле оно стало выражением протеста, тихого, но значительного по своим последствиям бунта против государства.
Оценивая творческое наследие писателя и его личность, следует уточнить и смысл такого понятия, как индивидуализм. Исследователи часто употребляют его как синоним эгоизма, отрицания нравственности и общественных связей. Между тем, эти понятия не всегда являются синонимами. В разных исторических ситуациях индивидуализм может иметь разное этическое содержание. Оценить правильно его можно лишь с позиций историзма. Индивидуализм Торо вовсе не исключал общественной активности, напротив, он явился плодотворной и исторически оправданной формой протеста против существующих условий. Торо утверждал самоценность личности как творческого начала, развивал неоплатоновскую идею сопричастности человека миру. Его концепция "личной автономии" имела гуманистический характер и в отличие от теорий модернистов не вела к гипертрофии индивидуального "я". По справедливому замечанию А. Н. Николюкина, Торо не был "отшельником или новым Робинзоном, решившим скрываться от людей в лесной чаще на берегу пустынного пруда"3. Это писатель, оказавший значительное воздействие на современников и потомков благодаря социальной значимости своих книг, общественно-активной позиции художника-гражданина.
***
Генри Дэвид Торо родиля в Конкорде 12 июня 1817 г. Его предками с отцовской стороны были французы. Мать, урожденная Данбар, происходила из потомков шотландских переселенцев. Отец Торо занимался торговлей, но удача редко сопутствовала ему. Вскоре после рождения сына он разорился и отправился искать счастья в Бостон, а затем в другие города Новой Англии. Через пять лет он вернулся обратно в Конкорд и занялся изготовлением карандашей.
Чал мерса, трактаты Кольриджа и Карлейля, во многом определившие его мировоззрение. Курс он окончил в 1837 г. одним из лучших, но в отличие от многих однокашников не стремился сделать карьеру. Найти жизненное призвание и следовать ему — вот цель, возвышающая человека. Эта мысль Карлейля глубоко запала ему в душу. Он пытался преподавать в школе, но, хотя очень любил детей, учителем не стал. Нетрадиционные педагогические методы не снискали ему популярности среди солидной конкордской публики, и ему вскоре пришлось оставить место. Спустя некоторое время он основал в Конкорде свою школу, где преподавал вместе с братом Джоном около трех лет, до апреля 1841 г. Болезнь брата положила конец учительской деятельности Генри. К этому времени он уже понял, что его призвание в другом — он будет поэтом, философом и натуралистом. Но для этого нужна свобода, а на жизнь можно заработать и поденной работой, не закабаляя себя. Молодой выпускник Гарварда берется за лопату, топор и землемерные инструменты: ставит заборы, чинит крыши, окучивает картофель, измеряет участки — мастер он был на все руки. Несколько часов необременительного труда — и он обретал столь ценимую им свободу для литературного досуга, прогулок по лесу, размышлений и чтения. Местные фермеры видели в нем человека порядочного и толкового, мнение же обывателей для него ничего не значило. Позже, в 1854 г. он напишет: "Нет на свете большего глупца, чем тот, кто расходует значительную часть жизни, чтобы зарабатывать на жизнь. Великие начинания не нуждаются в финансовой поддержке... Если я запродам обществу все утренние и дневные часы, как делает большинство, то мне не для чего будет жить"4.
В начале 40-х годов появились первые публикации Торо в журнале трансценденталистов "Дайел" — стихотворение "Взаимопонимание", статья о римском поэте Флакке, эссе "Зимняя прогулка" и "Естественная история Массачусетса". Эти ранние опыты Торо на писательском поприще носят явные следы влияния Эмерсона, который владел умами американской молодежи 30—40-х годов XIX в. Занятия молодого Торо под руководством Тиррела Чаннинга, брата знаменитого унитарианца, подготовили его к восприятию идей трансцендентализма. Способствовало этому и знакомство Торо с социалистом-утопистом Орестом Браунсоном, когда он летом 1836 г. проходил педагогическую практику в городке Кантон, штат Массачусетс. За те несколько недель, что Генри жил в доме Браунсона, он имел возможность познакомиться с радикальными идеями друга Эмерсона и Рипли, посещавшего в 1836—1837 годах, заседания Трансцендентального клуба. Еще в Гарварде на Торо произвели огромное впечатление лекции Эмерсона. По возвращении в Конкорд он сблизился с философом и в 1840 г. стал членом эмерсоновского кружка. В 1841— 1843 годах (и позже, в 1847—1849 годах) Торо жил в доме Эмерсона на правах младшего друга и ученика, помогал по хозяйству, занимался с детьми, редактировал "Дайел", когда Эмерсон ездил по стране с чтением лекций. Молодой поэт был ходячей иллюстрацией эмерсоновских доктрин. Он жил просто, обходясь абсолютно необходимым, умел делать любую работу, знал природу родного края как никто другой, а по независимости суждений его можно сравнить разве что с Олкоттом. Он не посещал церкви, отвергал официальную веру ради "естественной религии", не платил налога правительству, поощрявшему. рабовладение (за что и попал в тюрьму), укрывал беглых рабов и помогал им переправляться на север. Не страшась общественного мнения, он встал на защиту Джона Брауна, а после казни объявил его национальным героем.
Перефразируя известные слова о том, что Шелли был лучшим произведением Годвина, можно сказать, что Торо был лучшим произведением Эмерсона. Философ дал изначальный толчок развитию его взглядов и продолжал влиять на Торо в течение всей жизни. Взаимодействие этих двух творческих личностей — явление довольно сложное. Писатель самобытного дарования, независимого и оригинального ума, Торо вскоре перерос учителя как художник. Это признавал и сам Эмерсон. "У него есть сила, — писал он о молодом друге, — и он решается на подвиги, которых я не могу себе позволить. Читая его, я нахожу те же мысли, тот же дух, что живут во мне, но он идет дальше, облекая в прекрасные образы то, что я передал бы усыпляющим общим местом"5. И хотя в области трансцендентальной теории авторитет Эмерсона оставался непререкаемым, в американском литературном пантеоне бывший ученик потеснил учителя.

ГЕНРИ ДЭВИД ТОРО
Воспитанный на трактате "Природа", Торо стал "натуралистом" в том смысле, который вкладывал в это понятие Эмерсон, иначе говоря, человеком, способным научить людей воспринимать природу и объяснить им скрытый в ней нравственный смысл. Именно Эмерсон назвал Торо "бакалавром природы", а в его устах это было величайшей похвалой. 1. января 1835 г. в Конкорде состоялась лекция Эмерсона "О пользе естественной истории", на которой, по всей вероятности, присутствовал и молодой Торо. Он мог слышать слова философа, призывавшего земляков изучать природу, ибо она дает здоровье и радость от созерцания истины, совершенствует ум и позволяет человеку познать самого себя. Этому правилу Торо следовал буквально, о чем говорят его образ жизни и творчество.
Трудно назвать другого американского писателя, который лучше знал бы родной край. Торо ежедневно в любую погоду совершал далекие прогулки по окрестностям Конкорда, изучал жизнь и повадки животных. Он признавался в "Уолдене", что часто проходил восемь-десять миль по самому глубокому снегу "ради свиданья с каким-нибудь буком или березой или старой знакомкой из сосен"6. Его обширные дневники представляют собой большей частью подробные записи виденного во время прогулок. О его поразительном знании природы сложены легенды, ставшие традиционной чертой облика Торо. Он был своим среди зверей и птиц уолденских лесов: рыбы плыли к нему в руки, воробьи и синицы садились на плечи, и это было "более высоким отличием, чем любые эполеты" (6; с. 176). "Смотритель ливней и снежных бурь" (6; с. 14), как он шутливо называл себя, твердо верил в то, что можно приобщиться к "сверхдуше", когда бродишь по полям, любуешься отражением неба на поверхности пруда, слушаешь тишину леса и пение птиц.
Для последователя Эмерсона природа была отражением "высшей субстанции", источником Добра и Красоты. В дневнике 1853 г. Т. оро писал, что однажды не мог ответить на вопрос анкеты о том, какая область науки его интересует. "Мне казалось, что я выставлю себя на посмешище перед ученой публикой, если начну описывать ту отрасль которая меня занимает: ведь они не верят в науку, предмет которой — высший моральный закон. Поэтому я вынужден был опуститься до их уровня и описать им ту ничтожную часть себя, которую они только и могут понять. Дело в том, что я — мистик, трансценденталист и вдобавок к тому философ природы"7.
— "Естественной истории Массачусетса" (1842), "Зимней прогулке (1843) и "Прогулке на Вахусетт" (1843) — чувствуется сила самобытного ума, прошедшего школу конкордского Сократа. Все три эссе объединены темой природы, к которой писатель будет обращаться в дальнейшем, по-новому раскрывая и углубляя. "Естественная история Массачусетса" представляет собой рецензию на незадолго до того опубликованный официальный отчет о флоре и фауне Новой Англии. В ней подчеркивается нежелание писателя "иметь дело с политической историей" и предпочтение ей истории "естественной". Это отнюдь не означает, что Торо был равнодушен к политике и не следил за общественной жизнью страны. В его дневниках 1837— 1840 годов мы не найдем, за единственным исключением, упоминаний о политических событиях дня. Однако трудно предположить, что он ничего не знал о вигах и демократах, о политической коррупции, борьбе за теплые местечки, усилиях аболиционистов и той травле, которой они подвергались в Новой Англии. Домашние Торо были регулярными подписчиками аболиционистской газеты "Нэшнел антислэйвери стэндард" и страстными поклонниками Гаррисона. Сам Торо был близко знаком с некоторыми политическими деятелями как своего штата, так и федерального масштаба, в частности с семьей судьи Хора, сенатором-аболиционистом Чарльзом Самнером, с находившимся в гуще политических событий редактором нью-йоркской "Трибюн" Хорэсом Грили. Отказываясь говорить и писать о политике, Торо высказывал тем самым неодобрение ее. Зато природа была для писателя идеалом прекрасного и свободного мира, живущего по принципиально иным, "божественным" законам. Там все исполнено глубокого смысла, будь то прошлогодние листья, следы полевых мышей и зайцев на снегу или подводные домики ручейника. Страницы, посвященные описаниям рыб, птиц, насекомых, их повадок и образа жизни, удивительно поэтичны, и проза Торо звучит, как стихи.
"Зимняя прогулка" содержит живописные зарисовки раннего утра в заметенной снегом деревне. В ткань повествования вплетены парадоксы, несущие вполне определенную смысловую нагрузку: они должны были оттенять прелесть тихой сельской жизни "вдали от суетной толпы". Здесь "царит чистота и простота первобытного мира, здоровье и надежда... Стоя в одиночестве глубоко в лесу, видя, как ветер сдувает снег с деревьев, понимаешь, что мысли твои более значительны, чем когда ты занят городскими делами" (V, р. 171). В лесу или на озере Торо видел гораздо больше жизни, чем в городской суете, а барсуки и белки были для него более вдохновляющей компанией, чем политики.
Та же тема развивается в "Прогулке на Вахусетт". Подъем на гору для писателя — повод описать пейзаж, открывающийся с высоты, гармонию и красоту природы. Горные вершины — желанное место паломничества, они поднимают человека над суетой обыденной жизни, над пороками и предрассудками, гнездящимися в долинах. Эссе напоминает другое произведение американского романтизма — огромное полотно художника "Гудзонской школы" Томаса Коула "Вид с горы у излучины реки Коннектикут".
Писатель испытывал глубокое уважение и симпатию ко всем людям близким к природе: индейцам, охотникам, лесорубам. Тема "естественного человека" пройдет через все творчество Торо — от ранних эссе до последней книги "Мэнские леса" (1857). Одинокий рыбак, встретившийся автору "Зимней прогулки", кажется ему частью окружающей природы. Этот застывший человек если и нарушает дикую прелесть пейзажа, то не более, чем сойка или ондатра. Торо шутливо называет его еще одним почитателем невидимого, имея в виду, что для рыбака невидимое — непойманная щука, а для него — трансцендентальное божество, незримо присутствующее в окружавших его лесах и полях. Подобное противопоставление природы, "естественности" городу, цивилизации было характерным для романтической утопии способом критики государственных институтов и всего общественного уклада.
Первым опытам Торо не хватало, конечно, глубины и оригинальности, несмотря на отдельные находки и яркие поэтические страницы. Но в них он заявил о себе как ученик Эмерсона, продолжатель его традиций. Ранние эссе Торо были своего рода утопиями в миниатюре, и в них совершенно отчетливо звучат темы более поздних произведений.
"идти в леса" было мало. Нужно было еще вернуться из них. В философии Эмерсона и Торо возникает проблема "общество — одиночество", которая, по сути дела, была вариантом темы личности и общества, занимавшей многих писателей и философов. Просветители — Руссо, Сен-Пьер — решали ее однозначно: если общество развращено, следовательно одиночество целительно и похвально. Страстный протест ранних романтиков бросал их в крайность вечного нет. Но философская мысль не могла долго довольствоваться таким решением и постепенно прокладывала путь, по. карлейлевской формуле, к "вечному да". В понимании Эмерсона одиночество — способ формирования мировоззрения во времена духовного насилия и конформизма. Чтобы быть человеком, считал он, нужно практиковать одиночество — либо на лоне природы, либо внутреннее, среди толпы. При этом понятие "одиночество" не означало изоляции личности. Писатель постоянно подчеркивал, что человек должен активно участвовать в окружающей жизни, сохраняя свою духовную независимость.
Мысль о необходимости одиночества занимала Торо уже осенью 1837 г. Об этом говорят эпиграфы к дневнику, который он начал вести примерно в это время. Взяты они из произведений английских "метафизических поэтов", в частности из "Анатомии меланхолии" Бертона. В апреле 1838 г. Торо выступил перед кон-кордцами с лекцией "Общество". Его слова были исполнены горечи по поводу того, что общество — всего лишь "собрание людей" и близость их чисто механическая, а не духовная. Отчаявшись в возможности более совершенных отношений, они вынуждены играть роль в фарсе, который называют жизнью. Рассуждая таким образом, Торо делал вывод о необходимости одиночества. "Мы не должны постоянно пребывать в стихии общества и позволять ему кидать нас по воле волн. Нужно уподобиться мысу, врезающемуся в воду, чье основание каждый день омывается приливом, но вершины достигает лишь весеннее половодье" (VII, р. 40).
Откликом на речь Торо послужила лекция Эмерсона "О литературной морали", прозвучавшая через три месяца в конкордском лицее. В ней глава трансценденталистов определил одиночество как необходимое условие доверия к себе. Он предостерегал слушателей от опасности крайних решений. Изучать должно, говорил он, положительные и отрицательные стороны общества и одиночества. Юношеский экстремизм Торо он объяснял следующим образом: "... честная душа отвергает общество для того, чтобы обрести его. Она отрицает ложное из любви к истинному"8. Через полгода после выступления Эмерсона, в июле 1833 г., Торо сделал заметки в дневнике, для эссе "Молчание и звук". Из них явствует, что он выбрал из наставлений Эмерсона лишь то, что соответствовало его мироощущению в тот момент, а именно призыв изучать одиночество: "С каким спокойствием молчаливый отшельник наблюдает движение мира. До него не доходят клевета и людская злоба. Он составляет одно целое с Истиной, Добром, Красотой" (VII, р. 64).
Дневниковые записи Торо о молчании и звуке так и не были оформлены в отдельное эссе, но он частично включил их в книгу "Неделя на Конкорде и Мерримаке". В них слышится отдаленное эхо карлейлевской проповеди молчания. Правда, для шотландского философа это был синоним действия, нечто противоположное ненавистным ему порокам дилетантства и Праздности. Торо эту тему трактует иначе. Он отождествлял звук с действием, а молчание — с одиночеством. Последнее представлялось ему условием напряженной духовной жизни, состоянием, в котором можно научиться "думать, видеть, слышать". Как очевидно, критика общественных отношений приняла у Торо довольно умозрительный характер. Дилемму "общество — одиночество" он решал в пользу последнего и делал это на уровне абстрактных образов.
"Хозяин гостиницы" (1843). "Лендлорд", по мысли Торо, обладает целым рядом достоинств: он радушен, гостеприимен, наделен практической сметкой. Но помыслы его не устремляются "выше флюгера или гостиничной вывески". Он не испытывает потребности в одиночестве по той простой причине, что он — слуга людей, их тела, а не духа. Антиподом этого "человека общества" Торо считал "гения", иначе говоря, "человека одиночества". Особенности этих двух типов писатель объяснял, исходя из их социальных функций. Первые удовлетворяют материальные потребности человека, и этим определяется их коммуникабельность, сочетающаяся с бедностью внутреннего мира. Вторые, чей удел — сфера духа, являют собой полную им противоположность. Они чудаковаты, замкнуты, избегают людей. Отдавая должное каждой из этих крайностей, писатель еще не делал попытки примирить их. Через несколько лет, в "Уолдене", Торо достиг, наконец, диалектического единства: "одиночество ради общества" стало одним из принципов его моральной утопии.
Примечательно, что эссе "Хозяин гостиницы" появилось во влиятельном нью-йоркском журнале "Демокрэтик ревью". Здесь не обошлось без содействия Эмерсона. Он уговорил Торо отправиться в столицу американской журналистики и снабдил его рекомендательными письмами к Генри Джеймсу-старшему, к журналисту и издателю нью-йоркской "Трибюн", Хорэсу Грили и сотруднику Грили, неутомимому пропагандисту фурьеризма Альберту Брисбейну. В огромном городе Торо чувствовал себя неуютно. Ходить по издательствам и предлагать свои сочинения было занятием малоприятным для гордого поэта, и хотя пробиться ему не удалось, он обратил на себя внимание редактора "Демокрэтик ревью", Эверта Дайкинка. Он напечатал два эссе Торо, а позже — через Готорна — предлагал Торо сотрудничать в журнале. В Нью-Йорке писатель прожил немногим более полугода. В ноябре он вернулся в родной город и принялся за семейное ремесло — изготовление карандашей. А в это время в "Демокрэтик ревью" набиралось его второе из принятых Дайкинком эссе — "Возвращенный рай" (1843). По сути дела, это была рецензия на книгу немецкого иммигранта Джона А. Этцлера "Рай для всех. Как его достигнуть без труда силою природы и машин". Она впервые вышла в Питтсбурге в 1833 г., второе издание появилось в Лондоне в 1842 г. Автор обратился к редактору "Дайела" с просьбой прорецензировать книгу. По совету Эмерсона за работу взялся Торо. Он написал статью во время краткого пребывания в Нью-Йорке.
Торо было далеко не безразлично, как будет развиваться Америка, и рекомендации Этцлера не оставили его равнодушным. "Рай для всех" — индустриальная утопия, в которой проглядывают некоторые черты современного промышленного общества. Автор ее сулил читателям рай на земле через какой-нибудь десяток лет. Он предлагал сравнять горы, затопить долины, осушить болота, вырыть каналы и построить дороги, по которым можно будет ездить со скоростью тысячи миль в сутки. В программе Этцлера Торо усмотрел отражение некоторых тенденций тогдашней Америки. Он был свидетелем интенсивного строительства железных дорог, заводов, фабрик, безжалостного вырубания лесов. Писатель, воспитанный на принципах эмерсоновской "Природы", с большой опаской смотрел на рост техники и промышленный бум. Он боялся, что они повлекут за собой разорение природы, ее хищническое истребление, нарушат естественное равновесие. Торо зло иронизировал над попытками "улучшить природу": "Не будем же подчиняться ей. Направим облака, усмирим бури, заключим в стеклянные сосуды ядовитые испарения, предотвратим землетрясения, прочистим вулканы и удалим их опасное семя. Вымоем воду, подогреем огонь, охладим лед и подопрем землю. Научим птиц летать, а рыб — плавать" (IV, р. 283). Нельзя сказать, что писатель был абсолютно против освоения природы. Он возражал лишь против утилитарного подхода к ней, который, как верили Торо и Эмерсон, был губителен и для природы, и для человеческих душ.
Торо отвергал будущее, нарисованное фантазией Этцлера, где высшим благом был сверхкомфорт, а духовные ценности вовсе не принимались в расчет. Он был твердо уверен, что прогресс общества невозможен без моральных реформ, а о них-то не было и речи в книге Этцлера. Как же вернуть рай? Ответ Торо однозначен: с помощью любви, нравственного совершенствования личности. Такой взгляд со всей очевидностью вытекал из мировоззрения писателя, ибо для него всякий прогресс — в первую очередь категория нравственная.
Книга Этцлера и эссе Торо были продуктами своего времени. Их авторы по-разному откликнулись на эксперименты в духе утопического социализма, которые захватили Америку в 30—40-е годы XIX в., когда умами владели сначала Оуэн, а после экономического кризиса 1837-1838 годов — Фурье. В лице Этцлера Торо спорил с социальными реформаторами, возводившими коллективизм в закон. "Ничего нельзя достигнуть иначе, чем усилиями одного человека, — писал Торо.— ... Мы мало верим в переделку мира с помощью ассоциаций" (IV, р. 299). Он был хорошо знаком с последователями Фурье в Америке — Джорджем Рипли и Хорэсом Грили. Последний сделал свою газету трибуной пропаганды фурьеристских взглядов, а позднее — социализма, Рипли же применил теорию на практике, организовав в 1841 г. знаменитую колонию Брук-Фарм. Рецензия на книгу Этцлера, в которой Торо высказал скептическое отношение к коллективистским социальным экспериментам, появилась как раз за год до того, как Брук-Фарм была перестроена по типу фаланги, после чего просуществовала еще три года.
Рипли. Мысль об обреченности усилий перестроить общество в соответствии с учением Фурье, высказанная Торо в 1843 г., нашла художественное воплощение в романах Купера "Колония на кратере" (1847) и Готорна "Роман о Блайтдейле" (1852), в которых показан процесс разрушения утопических иллюзий. Индивидуализм Торо был формой отрицания не только духовного конформизма, но и "модных теорий о благе ассоциации" (IV; р. 299). Отношение Торо к реформам и реформаторам мало изменилось с годами. И в ранних дневниках и эссе, и в "Уолдене" он утверждал: внутренняя реформа — основа всякого социального улучшения. Этот путь долог и труден, но именно он ведет к цели, все остальные уводят в сторону. К попыткам перестроить общество с помощью средств более радикальных он неизменно относился скептически. "Почему бы нам не прислушаться иногда к голосу честных реформаторов нашего времени? Будем же к ним доброжелательны. Разве только к бедным мы должны проявлять милосердие? Что ж из того, что они фанатики? Может быть, их ошибки — это заблуждения благородных людей, может быть, именно они пробудят к жизни нечто лучшее, чем американская церковь и американское правительство?" (VII, р. 479). В этих словах из дневника писателя чувствуется не только скепсис. В них звучит невольное уважение к подвижничеству тех, кто, подобно аболиционистам Филлипсу и Гаррисону, приблизил день "второй американской революции". Но признать и понять героизм этих людей Торо смог только в "грозовые пятидесятые". Правда, даже тогда он не откажется от веры в непреложность истины, пророками которой стали для него Карлейль и Эмерсон: всякая реформа "начинается дома".
***
Большая часть творческого наследия Торо представляет собой описание "экскурсий": на мыс Код, в Канаду, в леса штата Мэн, путешествия по рекам Конкорд и Мерримак, прогулок по полям и лесам вокруг Конкорда, восхождения на горы Вахусетт и Кта-адн, и, наконец, длительного пребывания на Уолденском пруду. Сначала это были небольшие зарисовки, эссе-размышления. Постепенно они усложнялись по форме и по содержанию. В них вводился более широкий символический план, авторская исповедь (своего рода "путешествие внутрь"), лирические отступления. Они обретали масштабность "супер-эсое", какими по существу являются "Неделя на Конкорде и Мерримаке" и "Уолден, или Жизнь в лесу".
"Неделя на Конкорде и Мерримаке" (A Week on the Concord and Merrimack Rivers, 1849) была закончена в июле 1846 г., но опубликована лишь три года спустя. Торо безуспешно пытался найти для нее издателя и в конце концов напечатал книгу за свой счет. Расходилась она плохо, в результате библиотека писателя значительно пополнилась за счет нераспроданных экземпляров. Немногие, писал с горьким юмором Торо, имеют дома сотни книг, большую часть которых написали сами.
Уже современники отмечали, что "Неделя" — довольно трудное чтение. В самом деле, текст ее пестрит цитатами, на которые, говоря словами Лоуэлла, наталкиваешься, как лодка на коряги; широкие заимствования из самых разных источников плохо ассимилированы и воспринимаются как чуждые элементы. По меткому замечанию Г. Кэнби, "Неделя" похожа на "пудинг с такой богатой начинкой, что кажется, будто туда положили содержимое целой кладовой"9. Подобное впечатление возникает оттого, что в книге нет композиционной стройности, отдельные очерки нанизаны на стержень хронологической последовательности и плохо связаны между собой. Затрудняют чтение и некоторая отвлеченность, умозрительность, туманность изложения, свойственные ранней прозе писателя. Но несмотря на несовершенство формы, книга интересна. Она отражает становление взглядов Торо на природу и общество, политику и религию, его моральных и эстетических воззрений. Создавая "Неделю", Торо вырабатывал свой стиль, искал новые средства выразительности, экспериментировал с формой.
"Книга эскизов" Ирвинга, "Взгляды американцев" Купера, "Лето на озерах" Маргарет Фуллер, а также многочисленные отчеты и рассказы о путешествиях, которые составляли значительную часть прочитанного им. Сюжетным стержнем "Недели" послужило путешествие, предпринятое братьями Торо летом 1839 г. по рекам Конкорд и Мерримак. Автор увлеченно описывает прелесть ново-английского пейзажа с его полями, каналами, фермерскими домиками, непременными фигурами рыбаков на реке. Зарисовки интересны не только сами по себе. Они часто становятся поводом для "метафизических" размышлений. Жанр путевого дневника дал автору, говоря словами Кольриджа, "простор и свободу для описаний... и размышлений о людях, природе и обществе и в то же время обеспечил естественную связь всех частей"10. Пейзажи, исторические и этнографические подробности, хотя и написаны щедрым пером, занимают мало места сравнительно с "размышлениями о людях, природе и обществе". Однако они придают книге особый колорит, отличают ее от философского трактата. Бронсон Олкотт назвал "Неделю" "чисто американской книгой, пропитанной запахами ново-английских лесов и рек" (9; р. 271), книгой, которая не могла быть написана ни в каком другом месте. Американская она еще и потому, что отражает своеобразие философской мысли Новой Англии.
"Неделя" была аргументом трансценденталистов в полемике о том, какой должна быть американская литература. Торо не воспользовался рекомендациями Э. Дайкинка из "Демокрэтик ревью" или Л. Г. Кларка из журнала вигов "Никербокер" относительно того, что должен изображать писатель. Молодой автор проявил известную самостоятельность. Он не искал вдохновения в зрелище мощных водопадов, могучих рек или бескрайних равнин, не вел читателя в экзотические края или дальние страны, как делал Баярд Тэйлор, не показывал ему, подобно Корнелиусу Мэтьюзу и Джорджу Липпарду, жизнь большого города, трущобы и нищету, соседствующие с роскошью в Нью-Йорке или Чикаго. Он предлагал читателю получше вглядеться в тихую красоту Новой Англии. Ему было довольно проехать в лодке по речке, пройти по лесу до Уолденского пруда, чтобы встретить вещи прекрасные и значительные.11 Торо был вполне солидарен с литературными демократами в том, что американская жизнь, история и природа Америки дают богатый материал для подлинно национальных произведений. Он требовал полной "американизации" литературы. Зачем обращаться к Европе, рассуждал Торо, когда настоящее Америки богаче, чем тысячелетия европейской истории? "Разве нам нечего делать или мы больны? Стоит ли жертвовать Америкой и сегодняшним днем ради того, чтобы увидеть следы чьего-то забытого прошлого?" (I, р. 266).
Торо начал бунтовать против засилья английского влияния еще в Гарварде. В студенческом сочинении он писал: "Мы разорвали лишь политические узы, соединявшие нас с Англией. И хотя мы отвергли ее чай, она все же снабжает нас духовной пищей... Преклонение перед всем иноземным делает нас слепыми к национальным талантам... Писатель, желающий, чтобы его признали и к мнению его прислушались, вынужден дышать воздухом чужбины и говорить о вещах, о которых американцы и не помышляют. Вот тогда соотечественники ловят каждое его слово, копируют покрой его платья и фасон шляпы, его произношение и манеры"12— в выборе героев, сюжета, в изображении пейзажа, в своей общественной позиции, в том, как он изображал традиции, нравы и обстоятельства, определявшие характер и дух эпохи.
Кто же герои Торо, те, кого он описывал в путевых заметках? Это прежде всего люди, живущие трудом своих рук и близкие природе — рыбаки, лодочники, лесорубы, земледельцы, охотники. Писатель противопоставляет тех, кто ведет простую жизнь среди природы, городским жителям, занятым накоплением и приумножением богатства. "В эти жаркие августовские дни, — пишет он в главе "Суббота", — они заседают в суде,... разбирая тяжбу между Сполдингом и Каммингсом с полудня до захода солнца. А рыбак тем временем стоит по колено в воде, под тем же летним солнцем, вдыхая аромат лилий и мяты, и разбирает тяжбу между червем и плотвичкой... Для него вся человеческая жизнь подобна реке, текущей в море" (I, р. 21).
Тема естественного человека возникла уже в ранних эссе Торо, образуя один из аспектов его романтической утопии, связанный с идеализацией природы. Проблема дикаря обретает у него глубину, которой не было у европейских писателей, разрабатывавших американскую тему. Для них индеец был образцом естественного человека, далекого от цивилизации и потому нравственно здорового. Все они отдали дань традиции идеализировать дикаря, о которой писал Ирвинг в очерке "Поездка в прерии".
Торо, подобно Ирвингу, не пытался "закрасить истину красками своего воображения"12, хотя он безусловно поэтизировал американских аборигенов, восхищался их искусством жить в суровых условиях, знанием природы и умением обходиться немногим. "Наши индейцы больше похожи на людей, чем обитатели городов. Они живут как люди, думают как люди, умирают как люди"13, — писал он в студенческом эссе. Он считал, что ученые делают большую ошибку, не уделяя достаточного внимания индейцам, их языку и обычаям. Одним из трех американцев, которые, по признанию Торо, оставили глубокий след в его жизни, был индеец — его проводник в Мэнских лесах, Джо Полис. Двумя другими были Джон Браун и Уолт Уитмен. Торо намеревался написать книгу об индейцах, собрал обширный материал об их жизни, обычаях, истории, но смерть не дала ему закончить труд. Наблюдения над жизнью индейцев, размышления об их судьбе, разбросанные в разных сочинениях Торо, являются своеобразным памятником этому народу, обвинением его притеснителям. Торо был одним из немногих, кто считал истребление коренных племен позорным пятном на совести нации. В "Неделе" он рассказал печальную историю колонизации новых земель: "Приходит белый человек... Он покупает мокасины и корзинки индейцев, затем их охотничьи угодья. Через некоторое время он забывает, где были их могилы, и перепахивает их кости" (I, р. 52). Сочувствие к гонимым и презрение к. гонителям привели его к парадоксальной мысли, к которой пришел и Мелвилл в "Тайпи": "дикие" племена благороднее "цивилизованных" американцев, а цивилизация — проклятье, корень многих бед и пороков. Она дает удобства, но лишает людей преимуществ жизни на природе. Торо словно подводит читателя к мысли, что лучше отречься от этих благ ради простой жизни и здорового физического труда.
"Недели на Конкорде и Мерримаке". Между тем, трансценденталисты — в какую бы форму они ни облекали свои мысли, всегда оставались судьями действительности. Торо пристально следил за американской общественной жизнью, и его наблюдения получили отражение на страницах книг. В "Неделе" подвергнуты критике государственные институты и моральные нормы, хотя и не так откровенно, как в поздней публицистике. Торо обрушивает поток инвектив на унитарианскую церковь, которая к 40-м годам XIX в. утратила былой прогрессивный характер и превратилась в один из столпов государственности. Церковь, заявил он, вытравила из христианства самую суть, сохранив лишь оболочку. Какой американский пастор, вопрошал Торо, не кривя душой, станет убеждать паству раздать имущество бедным? И какой прихожанин может считать себя честным человеком, если, услышав такую проповедь, тотчас не покинет церкви? В стране, гордившейся своими набожностью и благочестием, очень дерзко должны были прозвучать слова Торо: "В наши дни больше всего неверующих среди тех, кто молится, соблюдает день субботний и строит новые храмы" (I, 77). Торо предложил своим читателям обратиться к "естественной религии", пусть даже языческой, иначе говоря, практиковать "доверие к себе" в вопросах веры. Подлинная вера, полагал он, не нуждается в посредниках, церквях и храмах.
Религия была для Торо прежде всего связана с соблюдением определенных нравственных правил. Он искал идеал, который мог бы предложить людям в качестве морального кодекса. Следуя традиции Чаннинга, Эмерсона, Паркера, он обрел его в нравственном учении христианства. Любовь, простота, бедность — вот основные постулаты христианской морали, на которые опирался в своих рекомендациях Генри Торо. Книги и эссе Торо создавались в общем русле романтической литературы, но они обладали безусловным своеобразием, характерным для произведений трансценденталистов: библейской простотой, афористичностью, яркой парадоксальностью мысли, философской трактовкой основных этических проблем. В "Неделе", например, Торо пишет совершенно в духе евангельской мудрости: "Бедный богач! Все, что у него есть — это то, что он купил... Я же — самый богатый владелец на Мерримаке: все, что вижу, — мое. По-настоящему богат тот, кто летом и зимой находит удовлетворение в собственных мыслях" (I, р. 373).
В утопию Торо можно было войти, лишь приняв обет добровольной бедности. Но это было далеко не единственным условием. Молодой поклонник Эмерсона видел мощное средство совершенствования общества в дружбе и любви. Еще в апреле 1838 г. он записал в дневнике: "Я думаю о любви, / Любовь для меня — мир, / Единственная пища и сладчайший напиток, / Она — соединяющее звено / Между землей и небом". (VII, р. 4). В платоновском трехступенчатом процессе познания особое значение для Торо имел второй этап: дружба. В любви с ее страстями он видел лишь начальную ступень отношений, завершающихся спокойной мудростью дружбы. Он исходил из тезиса Платона о том, что друзьями могут быть только люди подобные, а значит и добрые, потому что добрые сходны, а злые всегда злы по-разному. Дружба, в его представлении, — это возвышающее душу общение, основанное на правдивости, доверии, молчаливом взаимопонимании, которое людей делает существами "богоподобными". Это — прекрасный и недостижимый идеал, вечно манящий и ускользающий, подобно Атлантиде: "Никто не достиг твоих берегов, ни один моряк не видел твоих очертаний..., но старинные карты говорят о твоем существовании" (I, р. 278). В повседневной жизни люди, однако, довольствуются жалким суррогатом и даже не замечают этого. В самом деле, разве можно назвать дружбой отношения, основанные лишь на взаимной выгоде и корыстном расчете? "Если фермер снизил немного цену на лес или отдал голос за соседа на местных выборах, подарил ему бочку яблок или разрешил попользоваться своей повозкой, — это считается высшим проявлением дружбы... Когда говорят, что человек тебе друг, обычно имеют в виду, что он тебе не враг" (I, р. 282).
Торо и Эмерсон разрабатывали эту тему в конце 30-х — начале 40-х годов почти параллельно: Торо — в эссе о дружбе, включенном в "Неделю", а также в раде стихотворений, опубликованных в "Дайеле" и частично вошедших в текст книги; Эмерсон — в очерке "Дружба". Для последнего это чувство — более земное, при всей его высокой сущности. Торо же, по словам Эмерсона, "ткал свою нить слишком тонко"14, он представлял себе общение двух друзей настолько возвышенным, что оно лишалось опоры в реальной жизни. Но он достиг такой поэтической выразительности в изображении идеала, до которой не удавалось подняться Эмерсону. Эссе Торо о дружбе кончается следующими словами: "Так же, как я люблю природу, пение птиц, вид скошенных полей, течение рек, утро и вечер, лето и зиму, — я люблю тебя, мой Друг" (I, р. 30). Разрабатывая тему дружбы, Торо опирался не только на философию любви Платона и неоплатоников (Марсилио Фичино, Джордано Бруно, сэр Томас Браун), на него оказала влияние ренессансная поэзия, а также доктрина морального совершенствования Уильяма Эллери Чаннинга. Торо отразил и реалии американской жизни: культ дружбы был настолько распространен в Америке 30-х годов XIX в., что о нем писал в своей книге об Америке Алексис де Токвиль.
"Неделя на Конкорде и Мерримаке" содержит — в гораздо большей степени, чем какое-либо другое произведение писателя — изложение его эстетических воззрений. Соображения Торо о роли поэта, таланте и интуиции, соотношении этического и эстетического, музыкальности поэзии, ее роли в системе искусств, видах творчества сосредоточены в основном в последней главе книги. Торо строил свою эстетику, опираясь на трансцендента-листское понимание задач искусства. Конкордских философов объединяло убеждение в том, что искусство должно пропагандировать идеал, будить мысль, учить людей Истине, Добру, Красоте. Эта триада, вошедшая в лексикон трансценденталистов из философии неоплатоников, стала стержнем их системы и предопределила связь категорий этического и эстетического. В понимании Эмерсона, природа, как воплощение истинного, морального и прекрасного, являет собой идеал, служить которому — священный долг художника. Телеологическая концепция искусства с неизбежностью подводила эмерсонианцев к выводу о том, что высокое его назначение — служить достижению "великих нравственных целей".
В "Неделе" мы находим трансценденталистскую модификацию традиционно романтической концепции искусства. Продолжая идеи Кольриджа и Эмерсона, Торо писал об особой миссии поэта, которого он тоже наделял чертами исключительности. Для него художник — пророк и провидец, способный благодаря высоко развитой интуиции постигнуть высшую мудрость и поведать ее простым смертным. Торо делил всех писателей на три категории, в зависимости от присущего им способа постигать истину: "поэтов, или гениев", "художников" и "ремесленников". Поскольку высшей способностью познания в гносеологии трансценденталис-тов была интуиция, "поэт", чье творчество определялось как бессознательное и интуитивное, занимал в этой иерархии высшую ступень. Торо, как и Эмерсон, видел в нем посредника между Богом и людьми, человека, который в порыве вдохновения изрекает истину, хотя сам ее до конца не осознает. Такие люди чрезвычайно редки: из известных писателей он причислял к ним лишь Шекспира и Бернса. "Есть два вида творчества, великих и редких: один — произведения гения, или боговдохновленного, другой — создание интеллекта и вкуса и только иногда вдохновения. Первый из них — выше критики. Он истинен и сам дает правила критикам. В нем всегда бьется жизнь. Он священен, и читать его нужно с тем же благоговением, с каким мы изучаем творения природы" (I, р. 400).
Однако Торо не ограничивал творческий процесс одной лишь интуицией, как делал Эмерсон. Введя понятие "художника", в деятельности которого сочетаются элементы интуитивного и рационального, он обнаружил диалектический подход. Он следовал положению Шеллинга, изложенному в "Системе трансцендентального идеализма", о том, что в процессе творчества сознательное связано с бессознательным. "Художник" для Торо ниже "Поэта" именно потому, что ему не хватает интуитивного начала. Он творит благодаря таланту — свойству более низкого порядка по сравнению с вдохновением.
В самом низу художественной шкалы Торо поместил "ремесленников". Если "поэт" создает "поэзию", а "художник" пишет "поэмы" (причем и то, и другое обозначало не поэзию в общепринятом смысле, но высокохудожественную прозу и поэзию), то творчество "ремесленника" вообще выносится за рамки подлинной литературы, поскольку оно не отмечено печатью таланта и создается на потребу дня. Понятие "ремесленник" встречается и в эстетических системах Канта, Карлейля, Эмерсона. Кант определял ремесленника как человека, который создает "искусство для заработка", Карлейль с пренебрежением говорил о "хлебных художниках", а Эмерсон в том же тоне — о "стихоплетах". И Торо, и Эмерсон полагали, что "гении" и "художники" пишут "для вечности", а "ремесленники" и "стихоплеты" — "для времени". Отсюда — взгляд Торо на публицистику как низший жанр творчества, предназначенный для выражения сиюминутного и преходящего, чему, как он полагал, нет места на страницах "священных книг". Именно поэтому в "Неделе", за единственным исключением, нет откликов на политические события дня. Поэтому же он не включил в текст "Недели", как предполагал вначале, эссе "Вестник свободы", посвященное редактору-аболиционисту Натаниэлю Роджерсу. Торо были близки слова Эмерсона о том, что поэт — пророк, а не борец. Однако когда США развязали войну против Мексики, он понял, что настало время, когда и поэт должен активно выразить свой гражданский протест, если хочет оставаться гражданином. Вот тогда-то он и обратился к публицистике, а свои книги по-прежнему оберегал от вторжения злободневности.
Во взглядах на место поэзии в системе искусств Торо был близок немецким романтикам. Он считал ее самым романтическим из искусств и подчеркивал ее "божественный" характер, связь с неведомым и бесконечным. "Нет сомнения, что самые мудрые мысли выражены с помощью рифмы и музыкального ритма; они и по форме, и по содержанию — поэзия". "Поэзия — это мистика человечества" (I, р. 350), она воспринимается не через слова, а непосредственно сердцем. В глазах Торо, поэзия столь возвышенна благодаря ее музыкальности. Музыка же есть способ выражения сверхчувственных идей, звук действия вечных законов. С помощью подобных рассуждений Торо обосновывал положение о том, что поэзия выражает внутреннюю сущность мира и имеет прямое отношение к духовному идеалу.
и плохих книгах, например, содержится уничтожающая критика коммерциализации литературы: "Не все то, что печатается и переплетается, можно назвать книгами. Многое из этого не принадлежит литературе, а скорее относится к разряду дорогих аксессуаров цивилизации. Среди товаров, сбываемых коммивояжерами доверчивым покупателям, есть и такие, которые по форме напоминают книги". В один прекрасный день, продолжает Торо, обманутый читатель обнаруживает, что вместо Библии "он читает конные грабли, прядильную машину или мускатный орех, сигару из дубовых листьев, паровой пресс или даже кухонную плиту" (I, р. 99). Искусство и литература, по глубокому убеждению писателя, должны быть активны. Их назначение — не только просвещать и воспитывать, но вдохновлять на открытый протест против социальной несправедливости. "Книги, в которых каждая мысль смела, которые недоступны праздным и не нравятся робким, которые делают нас опасными для существующих институтов, — такие книги называю я хорошими" (I, р. 99).
Торо справедливо называют "опасным мыслителем". Опасна была и его книга: она будила мысль, подвергала критике государственные институты современной ему Америки.
На страницах "Недели" Торо создал образ поэта, соответствующий требованиям трансценденталистской эстетики. Это нонконформист с высоко развитым чувством доверия к себе, удел которого — идти своим путем, не поддаваясь тирании общественного мнения. Быть верным своим принципам Торо считал долгом каждого, в первую очередь — поэта. "Самая лучшая поэма не та, которая им написана, — замечал Торо, — но та, которая им прожита" (I, р. 365). Этот парадокс следует воспринимать как выпад против тех писателей, чья жизнь не была воплощением их взглядов. Самого Торо, при всем максимализме его требований, никто не мог бы заподозрить в непоследовательности. Используя приведенные выше слова, можно утверждать, что' у Торо было две "самых лучших поэмы". Первая — его жизнь, жизнь "натуралиста" и гражданина, патриота и врага государственных институтов, "отшельника" и смелого защитника Джона Брауна, человека, не стремившегося к карьере, умевшего делать любую работу, предпочитавшего прокуренным салонам мужской зал бостонского вокзала, а всевозможным собраниям — собирание черники. Именно этой жизни мы обязаны тем, что родилась на свет книга, которую можно назвать его второй "самой лучшей поэмой". Этой книгой стал "Уолден".
***
"доверия к себе", когда отправился на Уолденский пруд, построил бревенчатый домик и жил там два года и два месяца — с 4 июля 1845 г. по 6 сентября 1847 г., — содержа себя трудом своих рук. Он выращивал бобы, ловил рыбу, принимал гостей, писал "Неделю на Конкорде и Мерримаке" и размышлял над "основными фактами жизни".
Этим необычным экспериментом Торо, как сказал бы Эмерсон, "нарушил спокойствие чтущего приличия века". В его уединении преуспевающие конкордцы увидели вызов своему образу жизни и системе ценностей. Воспитанные в пуританских традициях и руководствовавшиеся максимами Коттона Мэзера и Бенджамина Франклина, они не одобряли человека, который, имея гарвардский диплом, не стремился сделать карьеру, скопить состояние, а жил совсем просто, обходясь абсолютно необходимым. Об "уолденском отшельнике" в Конкорде знали все. О нем говорили и спорили, считали долгом посетить его. Он стал частью конкордской жизни, своего рода местной достопримечательностью.
"естественной жизни" Торо значителен в первую очередь тем, что послужил основой для создания книги "Уолден, или Жизнь в лесу" (Walden, or Life in the Woods). Она вышла в свет 10 августа 1854 г. Большие отрывки из нее публиковались ранее в нью-йоркской "Трибюн" и "Грэмз мэгезин". Широкий американский читатель узнал еще об одном из многих экспериментов "новой жизни", которыми была столь богата история Америки 20—50-х годов. Но этот опыт был необычным, как необычны сама книга и ее автор. Ей суждено было преодолеть границы времени и стать одним из ярчайших произведений мировой литературы.
"Уолден" был сразу отмечен критикой. Благожелательные рецензии появились в аболиционистских газетах "Нэшнел анти-слэйвери стэндард" и "Нэшнел эра". (На страницах последней за два года до того печатался роман Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома"). Но были и другие отзывы. Анонимный критик из "Грэмз мэгезин" обвинял писателя в эгоизме и индивидуализме, положив начало "легенде о Торо". С защитой автора "Уолдена" выступила известная писательница и участница аболиционистского движения Лидия Мария Чайльд. Она отметила глубокое нравственное содержание книги, определила ее как предостережение против всякого рода ограниченности и фанатизма, как предложение задуматься, так ли уж важны "материальные усовершенствования, накопление богатств, совместные филантропические усилия, коими мы так гордимся"15. Так сразу после появления "Уолдена" возник спор, не затухающий и по сей день: кто же Торо — эгоист, равнодушный к благу ближнего, или "живая душа", совесть нации; угрюмый отшельник, бежавший от жизни, или одинокий революционер, как назвал его Синклер Льюис?
Первый камень легенды об асоциальности Торо заложили, как это ни парадоксально, друзья писателя- — трансценденталисты Бронсон Олкотт, Уильям Эллери Чаннинг-младший, отчасти сам Эмерсон, а также друг Торо и издатель многих его сочинений, Гаррисон Блейк. По замечанию одного критика, они видели Торо слишком близко, чтобы видеть его целиком. Для них он был прежде всего "бакалавром природы". Не удивительно, что в конце века американский читатель знал Торо в основном как поэта-натуралиста. Но главным творцом легенды был Джеймс Рассел Лоуэлл. Поэт, издатель, критик, он пользовался большим влиянием в американском литературном мире. В блестящем по форме, но далеком от объективности эссе о Торо (1865) он изобразил писателя как человека, "который лицемерно проповедовал возвращение к огниву, когда у самого в кармане были спички"16. Лоуэлл называл его одиночество на Уолдене отшельничеством и бегством от жизни, философию простой жизни — леностью и оправданием неудачника, любовь к природе — болезненной причудой. Как справедливо заметил Т. Скаддер, в критике Лоуэлла была своя логика. Он говорил от имени людей преуспевающих, столпов общества, для которых Торо был "неудобным пророком". Легенда о Торо, "отшельнике" и "мизантропе", человеке "антиобщественном", устраивала тех, чьей жизненной философией был коммерческий успех. "Имидж", созданный Лоуэллом, закрепился в литературе на несколько десятилетий.
—80-х годов американцы не были склонны прислушиваться к словам пророков. Им был не по вкусу критический пафос сочинений Торо. Писатель не верил в миф об избранности Америки, и это также мало способствовало росту его славы в стране, которая восторженно внимала речам Теодора Рузвельта, оправдывавшего колониальные захваты "особой миссией Америки". Только после кризиса 30-х годов XX в. американцы задумались над предостережениями конкордского философа. Тогда-то и началась серьезная переоценка Торо на его родине.
"Борьба за Торо" началась сразу после появления эссе Лоуэлла, и вскоре полемика перекинулась через океан. Роберт Льюис Стивенсон соглашался с Лоуэллом, называя Торо желчным эгоистом и бездельником. Впрочем, через шесть лет он круто изменил мнение. В предисловии к книге "Знакомые очерки людей и книг" (1886) он признавался, что в эссе "Торо: его характер и мнения", опубликованном ранее в "Корнхилл мэгезин", он — хотя и неумышленно — исказил облик американского писателя. Не исключено, что огромная популярность Торо среди английских рабочих, либералов и реформаторов разного толка заставила Стивенсона смягчить приговор17.
С Лоуэллом и Стивенсоном полемизировал Фрэнк Сэнборн, известный аболиционист, близко знавший Торо в последние годы жизни. Пытаясь преодолеть односторонность в трактовке Торо, Сэнборн невольно впал в другую крайность, представив его реформатором, учеником Гаррисона и Браунсона. Он положил начало тенденции, которую можно было бы назвать социологической. В XX в. ее продолжили В. Л. Паррингтон и марксистские критики Макс Лернер и Сэмюэль Силлен. Все они отмечали социальную направленность творчества Торо в противовес тем, кто делал упор на его мистицизме или "отшельничестве". Их исследования обнаруживают полный разрыв с лоуэлловской традицией и сознательный от нее отход.
Дальнейшую реабилитацию Торо в последней четверти XIX — начале XX веков предприняли первые английские биографы писателя, Г. Солт и А. Джэпп, а также малоизвестный ныне Ф. Хьюберт в книге "Свобода и образ жизни", аболиционист и корреспондент Торо, Т. У. Хиггинсон в "Кратких исследованиях об американских писателях", историк литературы Пол Элмер Мор, издатель дневников Торо, Б. Торри, известный писатель-натуралист Джон Бэрроуз.
Все они по-своему парировали удары первых "мифотвор-цев" — У. Э. Чаннинга, Лоуэлла, Стивенсона — и доказывали, что Торо не был мрачным затворником, бежавшим от гражданского долга в общество белок и сурков. Защитники Торо в Англии и Америке восхищались его мужеством, верностью принципам, высоким понятием долга.
"моральных реформаторов человечества: Лао-цзы, Будды, Христа, Яна Гуса"18. Слишком долго, писал он в сборнике "Живые мысли Торо" (193£), его считали только поэтом и натуралистом. Он прежде всего философ, размышлявший над основными вопросами бытия. Однако представление Драйзера о Торо было не лишено ограниченности. Упрощая философию Торо, он сводит его трактовку проблемы личности и общества к формуле: человек должен жить один и не зависеть от общества. Создается впечатление, что Драйзер прочел некоторые страницы Торо глазами Лоуэлла, хотя и оценил их прямо противоположным образом.
В 20-х годах двадцатого столетия американский композитор Чарльз Айвз, автор сонаты "Конкорд, штат Массачусетс, год 1845", вписал одну из самых страстных и глубоко личных страниц в историю изучения Торо. Обращаясь в своем эссе к тому, кто сыграл столь роковую роль в посмертной судьбе писателя, он сказал: "... быть может, сейчас Торо дает людям больше любви, доброты и сочувствия, чем пятьдесят лет тому назад давали вы, господин Лоуэлл. Он, вероятно, представляет собой гораздо более могучую и великую силу в моральной жизни его соотечественников, чем вы могли себе представить полвека тому назад"19. Эти слова оказались пророческими. Прошло немного времени, и Торо занял прочное место среди классиков американской литературы.
Двойственность в оценке Торо, обозначившаяся сразу после выхода в свет "Уоддена", сохранилась и по сей день. Уолтер Хар-динг отмечает, что в Европе Торо воспринимают в основном как "политического активиста", в Японии же его ценят главным образом как певца природы и созерцателя20 из них не может быть единственно верным. Абсолютизация одной стороны творческой индивидуальн ости писателя неизбежно влечет за собой искажение истины. Понять Торо можно только в диалектической сложности проявлений его натуры. Сам писатель называл себя "мистиком, трансценденталистом и вдобавок к тому философом природы" (XI, р. 4). Эта триада дает надежную базу для объективного исследования. Трансцендентализм Торо объясняет и его любовь к природе, и страстность гражданского протеста, и "тихую войну с государством". Как заметила Э. Сибоулд, только если рассматривать творчество Торо в свете трансцендентальной философии, "отдельные части головоломки соединяются, разнообразные интересы писателя приходят в систему, и все его парадоксы становятся понятными"21.
Оценить значение уолденского эксперимента можно лишь с помощью "трансцендентального ключа", то есть пристального внимания к философским воззрениям Торо, к эволюции его мировоззрения: от метафизической абсолютизации одиночества в ранних эссе — через признание необходимости одиночества и общества ("Хозяин гостиницы") — к гармоническому сочетанию свободы и "завербованности", индивидуализма и служения людям — в "Уолдене". В книге создан образ мудреца, живущего для общества. Достоинства "гения" и "Лендлорда" объединились в образе Олкотта, который был в глазах Торо идеальным трансценденталистом. Олкотт — подлинный друг людей: "В его гостеприимных мыслях находится место и для детей, и для нищих, и для безумцев, и для ученых; он думает обо всех со свойственной ему широтой. Ему следовало бы содержать караван-сарай на всемирной дороге, где философы всех наций могли бы найти приют"... (6; с. 172). Слова эти можно отнести и к самому рассказчику. Вопреки легенде, Торо не жил анахоретом. По свидетельству Уолтера Хардинга, в его хижину на Уолдене часто наведывались местные фермеры Хосмер, Минотт, Райе, бедняки и социальные парии Мелвин, Гудвин и Хейнс, железнодорожные рабочие и соседи-ирландцы, которым он много помогал. Часто приходили друзья-трансценденталисты: Олкотт, молодой Чаннинг, заглядывал к нему и Эмерсон. О своих гостях автор подробно пишет в главах "Посетители" и "Прежние обитатели и зимние гости". Первая из них открывается признанием: "Думаю, что я люблю общество не меньше большинства людей, и всегда готов присосаться, как пиявка, к каждому здоровому человеку, который мне встречается. Я от природы не отшельник и, вероятно, мог бы пересидеть любого завсегдатая трактира, если бы у меня нашлись там дела" (6; с. 92).
В свойственном ему шутливом тоне Торо говорит о вещах важных, занимавших его как философа: что есть нравственно здоровый человек и какими должны быть отношения людей в обществе? Проницательный взгляд философа не улавливал в современной ему действительности черт идеала: духовного родства, бескорыстия, искренности. Зато он находил их среди людей простых и близких к природе. С особенной теплотой он пишет о канадском лесорубе и пильщике Алеке Терьене, человеке бесхитростном и доверчивом, который тонко чувствовал природу и составлял с ней единое целое. Не беда, что интеллект его был неразвит, зато нравственное здоровье вызывало восхищение писателя. Среди других его гостей были дети, рыболовы, охотники, бедные фермеры, философы и поэты, "искавшие в лесу свободы", — лучшие представители человеческого сообщества. Свою связь с миром Торо подчеркивал в характерной для него метафорической манере: "Я так далеко удалился в великий океан одиночества, куда впадают реки общества, что ко мне по большей части приносило только лучшие их отложения" (6; с. 94). Повествуя о "пилигримах", стучавшихся в дверь его уолденской хижины, Торо умышленно парадоксален. Желанными для него гостями были не только "дети, нищие, ученые", но и "безумцы из местной богадельни". Иные из них, писал он, "разумнее, чем так называемые надзиратели над бедными и члены городской управы" (6; с. 98).
У Торо своя шкала социальных ценностей. "Добропорядочные" граждане — деловые люди, мысли которых заняты исключительно заработком, пасторы, "говорившие о Боге так, словно имели на него монополию", "самозванные реформаторы", ученые снобы, которых он окрестил "интеллектуальными сороконожками" (6; с. 99), юноши, утратившие идеалы и начавшие делать карьеру, — все это нежелательные гости на Уолдене, ибо они неспособны чувствовать природу и не нуждаются в одиночестве. На страницах книги создан образ человека, который живет независимой духовной жизнью, практикуя одиночество, обогащая ближних, даря им богатство своего духовного мира и мудрость философского постижения бытия.
— не всегда лучший способ жить для общества. С этими словами нельзя не согласиться. Уединение Торо на берегу Уолдена не было выходкой мизантропа. Оно было необходимо для развития личности, ее самопознания и совершенствования, для выполнения миссии "поэта", ибо только в одиночестве — так полагал и Эмерсон — можно воспринять божественное откровение. Сосредоточенность, интимное общение с Богом, необходимое для мистика, казались Торо невозможными в суете и шуме городской жизни. Для этого требовалось уединение на лоне природы. Кроме того, уолденское "отшельничество" демонстрировало неприятие американского образа жизни, отрицание тех черт общества, которые не соответствовали нравственному идеалу писателя. Его "затворничество" было по сути своей пассивной формой гражданского неповиновения. Каждый, полагал Торо, должен практиковать одиночество, чтобы стать полноценным членом идеального общества. Для самого Торо, как удачно заметил Шерман Пол, "природа была источником вдохновения, а общество — полем деятельности" (1; р. 127).
"Уолден, или Жизнь в лесу" представляет собой не только описание двухлетнего эксперимента "естественной жизни". Это произведение философское, в котором трансцендентальная доктрина получила блестящее художественное воплощение. "Уолден" — прежде всего, апология простой жизни, размышление о том, каким образом человек может усовершенствовать себя, сделать жизнь духовнее и осмысленнее. Книга написана в жанре философского и автобиографического эссе. Рассказчик, герой и автор в ней практически сливаются, и вряд ли возможно их разделить. Не случайно сам Торо настаивал на аутентичности "Уолдена" в первых же строках: "Когда я писал эти страницы — вернее, большую их часть, — я жил один в лесу, на расстоянии мили от ближайшего жилья, в доме, который сам построил на берегу Уолденского пруда в Конкорде, в штате Массачусетс, и добывал пропитание исключительно трудом своих рук. Так я прожил два года и два месяца. Сейчас я снова временный житель цивилизованного мира" (6; с. 5).
"Уолден" не является, строго говоря, произведением сюжетным. Это не роман и не повесть, но благодаря взаимосвязи категорий времени и места видимость сюжета создается. Приметы места четко определены и вынесены в оглавление ("Бобовое поле", "Поселок", "Пруды", "Ферма Бейкер" и другие), описание взято в точные временные рамки: начало марта 1845 г.— сентябрь 1847 г. Таким образом, философские и социальные рассуждения писателя наполняются художественной образностью в рамках единой пространственно-временной структуры, а не существуют сами по себе, как было в "Неделе на Конкорде и Мерримаке".
На страницах книги автор размышляет, исповедуется, беседует с читателем о повседневных делах и основных законах бытия, иногда прямо обращается к нему: "Давайте подумаем, в чем суть большей части забот и тревог, о которых я говорил..." (6; с. 11). Он виртуозно владеет обширным арсеналом художественных средств и безошибочно выбирает именно то, которое соответствует поставленной задаче: встряхнуть читателя, разбудить его сознание, показать мир иным, чем видит его обыватель, научить Правде, Добру, Красоте. Свою книгу-проповедь Торо адресовал прежде всего "среднему классу" — городской интеллигенции, зажиточным фермерам, студентам, выбирающим путь в жизни. Именно их — а не задавленных нуждой бедняков — хотел он научить "правильной жизни". Самопознание, опрощение, близость к природе, доверие к себе, здоровый физический труд — вот что предлагал им уолденский мечтатель в качестве идеала. В ограничении потребностей, отказе от роскоши, стремлении к простоте Торо видел способ сделать жизнь более осмысленной. Эмерсон сказал как-то, что человек забыл свое высокое предназначение ради участка земли, дома и амбара. Торо иллюстрировал эту мысль целой серией метафор и сравнений. Собственность для него — символ гнета, капкан, попав в который человек лишается самого драгоценного блага — свободы. Люди ведут "жизнь тихого отчаяния", поскольку вещи поработили их: "лучшую часть своей души они запахивают в землю на удобрение" (6; с. 7).
Унылой реальности, отраженной в зеркале художественного восприятия, Торо противопоставлял идеал человеческого предназначения. Создавая его, он обращался к этическим представлениям Христа и древних философов Востока. Мудрость не в том, убеждал он сограждан, чтобы копить сокровища, "которые... моль и ржа истребляют, воры подкапывают и крадут", а в том, чтобы "покорить и культивировать немногие кубические футы своей плоти" (6; с. 7). Глава "Хозяйство", открывающая книгу, — своеобразный трактат о "первичных жизненных потребностях", о том, как обеспечить кров, необходимый минимум пищи, одежды и топлива, не закабаляя себя. Торо подробно описывал свой опыт жизни на Уоддене. Истинный философ, говорил он, должен идти впереди своего века. "Он по-иному, не так, как его современники, питается, укрывается, одевается и согревается" (6; с. 7). Провозглашая один из самых дорогих его сердцу принципов — простоту, — он не позволял себе воспарять ввысь. С помощью шутки, юмора, подчеркнуто бытовой лексики он заземлял высокую мысль, остроумно пародировал самого себя (диалог отшельника и поэта в главе "Бобовое поле"). С серьезным видом он уверял читателя, что большой ларь, куда рабочие складывали на ночь инструмент, послужил бы подходящим и недорогим жилищем, что можно быть сытым одним портулаком и кукурузой, сваренной с солью, а одежду носить до тех пор, пока в ней еще можно молиться Бо,гу. Со скрупулезной точностью, до четверти цента, подсчитав свои "доходы" (26 долларов 78 центов, полученные от продажи выращенных бобов и заработанные поденной работой) и расходы во время жизни на Уоддене, Торо сообщал читателю, что не только покрыл все затраты на постройку дома, питание, одежду и прочее, но и остался в выигрыше — обеспечил досуг и независимость, укрепил здоровье и кроме того стал владельцем удобного дома, который обошелся ему всего в двадцать восемь долларов и двенадцать с половиной центов.
Приводимые им цифры и выкладки рассчитаны на практичных ново-английских янки, которые с большим доверием отнеслись бы к рассуждениям человека делового, знающего цену деньгам, чем к моральным сентенциям витающего в облаках идеалиста. Один из исследователей недаром говорил, что Торо приземлил трансцендентализм.
"правильную жизнь". Своей утопии он придавал метафорическое значение, о чем свидетельствует его письмо Г. Блейку: "Как проповедник я хотел бы сказать людям не как дешевле добывать пшеничный хлеб, но о хлебе жизни, по сравнению с которым пшеничный хлеб покажется отрубями" (I; р. 309). Создавая нравственный идеал, Торо выступал прежде всего как моральный критик, далекий от соображений политической экономии. Он, конечно, понимал, что общество нельзя организовать на основе натурального хозяйства, хотя для одного человека подобного метода хозяйствования он не исключал. Дневник писателя дает нам свидетельства того, что автор "Уолдена" сознавал, насколько трудно примирить идеал с реальными человеческими возможностями. "Какой смысл пытаться жить просто, — писал он в 1855 г., — самому выращивать хлеб, ткать одежду, строить дом..., если твоя семья в своем безрассудстве хочет иметь и получает тысячу других вещей, которых ни ты, ни она не может произвести и никто не сможет оплатить? Люди, с которыми ты связан, подобно быку, постоянно тянут совсем в другую сторону" (XIV, р. 8).
Устроив жизнь на принципах "экономии", Торо пользовался досугом как философ. Он проводил долгие часы "в блаженной задумчивости, в ничем не нарушаемом одиночестве" (6; с. 74), прислушиваясь к голосам леса, наблюдая за жизнью животных и растений. "В такие часы я рос, как растет по ночам кукуруза, и они были полезнее любой физической работы. Эти часы нельзя вычесть из моей жизни, напротив, они были мне дарованы сверх отпущенного срока. Я понял, что разумеют на Востоке под созерцанием, ради которого оставляют работу. Большей частью я не замечал, как течет время. Солнце шло по небу как бы затем, чтобы освещать мой труд: только что было утро — а вот уже и вечер, и ничего памятного не совершено. Я не пел, как поют птицы, я молча улыбался своему низменному счастью" (6; с. 74—75).
Приведенная выдержка интересна не только тем, что в ней слышится отзвук учения йоги; она важна для понимания сути романтической утопии Торо. Культу обогащения, расцветавшему на американской почве, противопоставлены ценности совсем иного плана — добровольная бедность, самоуглубление, философское созерцание природы. "Не сомневаюсь, — продолжал писатель, — что моим согражданам это казалось полной праздностью, но если бы меня судили цветы и птицы со своей точки зрения, меня не в чем было бы упрекнуть" (6; с. 75). Эти слова гораздо значительнее, чем кажется на первый взгляд. В них содержится выпад — один из многих в книге — против кодекса морали, сформулированного Франклином в середине XVIII в.. Его известная заповедь из трактата "Путь к изобилию" — стать здоровым, богатым и мудрым — в устах Торо звучит довольно иронично. Франклиновский "путь к изобилию" в глазах Торо был прямой дорогой к нищете духа. Отвергнув практицизм в его буржуазном истолковании, Торо возвел в идеал непрактичность и "прекрасные мечты", и это вполне закономерно для писателя, который важнейшим признаком истины считал парадоксальность.
"Купцы и К0 давно смеются над трансценденталистами, высшими законами и т. д., — писал он в 1857 г. Г. Блейку.— Это, мол, вздор, пустые мечты, как будто они сами бросили якорь в надежном месте. Если и существовало учреждение, которое считалось воздвигнутым на солидной и постоянной основе и более других воплощало хваленый здравый смысл, благоразумие и практическую хватку, — так это банк. Но сейчас банки содрогаются, как былинки на ветру. Едва ли хоть один из них выполнил свои обещания... Не только Брук-Фарм и фурьеристские коммуны, но и общество в целом не оправдало себя. А "пустые мечты" остались, благотворные и неизменные. Тяжелые времена, надо сказать, имеют свою ценность: они показывают, чего стоят все обещания и что есть настоящие банки"22.
Способность отрешиться от мира с его мелочными заботами, воспарить мыслью в заоблачные выси или даль времен казалась Торо свойством истинного мудреца. Отсюда понятно, почему "самым здравомыслящим человеком" ой называл другого непрактичного конкордского мечтателя, автора "Орфических речений" Бронсона Олкотта. Полемизируя с идеологом просветительской морали Франклином, Торо утверждал: здравомыслие в том, чтобы строить "воздушные замки, для которых на земле не было достойного фундамента" (6; с. 172). Очевидно, что в понятие "мудрость" он вкладывал иное содержание, нежели Франклин.
— значило обрести душевное здоровье и моральное совершенство, поскольку природа — воплощение красоты и божественной мудрости. "Природой невозможно пресытиться. Нам необходимы бодрящие зрелища ее неисчерпаемой силы, ее титанической мощи — морской берег, усеянный обломками крушений, дикие заросли живых и гниющих стволов, грозовые тучи и трехнедельный дождь, вызывающий наводнение" (6; с. 201). Он исключал возможность того, что законы природы могут быть неблагоприятны для человека, и в этом расходился с Мелвиллом и с американскими натуралистами, изображавшими борьбу "всех против всех" в природе и обществе как неумолимый закон и неизбежное зло.
Еще в 1823 г. в "Пионерах" Купер писал об опасности истребления природных богатств Америки. В 40-х годах оно приняло еще более широкий размах. Торо уже было совершенно очевидно, что безудержный практицизм грозит уничтожением девственным лесам Америки. В ранних эссе он замечал, что "улучшать" природу — безумие. Использовать ее для нужд техники, продолжал он в "Уолдене", — святотатство и преступление. Если в эссе эта мысль разрабатывалась в чисто теоретическом плане, то в "Уолдене" автор оперировал уже конкретными примерами. Он был свидетелем массовой вырубки лесов, расширения фермерских участков, интенсивного строительства железных дорог! С тревогой и горечью он писал о том, как быстро меняется облик земли, "лысеет" планета в результате безжалостного уничтожения лесов. "Придется отращивать бороду, — невесело шутил он, — чтобы скрыть наготу земли"23. Писателя охватывало чувство безнадежности при виде неотвратимого наступления цивилизации на священные для него поля и леса. Неизбежные явления, сопутствующие развитию промышленного общества, рассматривались им через призму нравственной доктрины трансценденталистов. Не может быть безнаказанным любое насилие над природой, считали они, поскольку оно ведет к разрушению человеческой личности, к деградации общества. Трансценденталистские убеждения сделали Торо последовательным врагом всякого нарушения естественной гармонии.
Ральф Габриэл в книге "Развитие демократической мысли в Америке" писал: "Торо видел, хоть и смутно, но яснее, чем кто-либо из его современников, рождение новых сил, враждебных великим доктринам морального закона и свободы личности. Одной из них был быстрый рост промышленности, другой — национализм, который усиливал власть государства". Американский историк прав: Торо не разделял преклонения американцев перед техническими достижениями. Его интересовало в первую очередь, какой ценой за них заплачено. Если эти достижения губят природу или нарушают экологический баланс — они бесчеловечны и достойны осуждения. Автор "Уолдена" суров и категоричен в критике тенденций капиталистического развития. Но его инвективы лишены назидательности. Он прибегал к нарочито грубым оборотам и сравнениям, использовал иронию и даже особые приемы графического оформления текста, рассчитывая удивить, а иногда и шокировать читателя. "Знаете, что такое образцовая ферма? Это... огромное сальное пятно, благоухающее навозом и снятым молоком. Отлично обработанная ферма, удобренная человеческими сердцами и мозгами. Разве можно выращивать картофель на кладбище?" (6; с. 127). Умышленно резкий, ироничный тон писателя, когда он говорит о торговле и частном предпринимательстве, звучит контрастом лирическим описаниям прудов, пока еще не оскверненных погоней человека за прибылью.
С шутливым пафосом Торо описывал мощь "Стального коня" в главе "Звуки", но, переходя на серьезный тон, замечал, что покоренные силы природы не всегда используются в благородных целях. Паровоз, этот символ могущества человеческого разума, служит в первую очередь торговле, цели низкой и недостойной, в глазах Торо. Его дифирамбы торговле нельзя принимать за чистую монету. Построенные на приеме постепенного снижения стилистической окраски и переведения возвышенного плана в обыденный, они создают иронический эффект. Описывая идущие мимо железнодорожные составы, он писал: "Я больше чувствую себя гражданином мира при виде пальмовых листьев, которые летом будут защищать от солнца столько белокурых голов в Новой Англии, при виде манильской пеньки, скорлупы кокосовых орехов, канатов, джутовых мешков, металлического лома и ржавых гвоздей" (6; с. 79). Торговле присущи смелость и предприимчивость, уверенность и неутомимость, с деланным пафосом восклицал писатель. Но, оказывается, все эти прекрасные качества направлены только на то, чтобы перевезти из одного штата в другой или из одного конца света в другой старые паруса, лоскут в мешках, соленую рыбу, патоку или бренди.
"Дьявольском Стальном коне" для него нет ничего героического хотя бы потому, что именно он "замутил копытами Кипящий Ключ" и "съел все леса на берегу Уолдена" (6; с. 124). "Мы построили нечто роковое, создали Атропос, ту, что не сворачивает со своего пути (так бы и следовало назвать паровоз)" (6; с. 78). Этот зловещий образ вполне согласуется с развернутой метафорой железной дороги.
В книге есть и другой ряд символов. Самый яркий из них — Уолден, символ чистоты и гармонии, эталон совершенства, сопоставление с которым позволяет увидеть, насколько то или иное явление удалено от авторского идеала добра и красоты. Глава, посвященная прудам, звучит как поэтический гимн природе и осуждение собственнического мира. Торо шутливо назвал себя "лордом-хранителем лесов". В нем счастливо сочетались философ, поэт и натуралист. Может быть, именно поэтому ему удалось создать произведение, которому нет равных в американской литературе по поэтичности описаний природы. Секрет его мастерства не только в удивительном знании природы и умении чувствовать ее, но и в искусной аранжировке текста. Торо использует такие стилистические приемы, как эвфония, аллитерация, ассонанс, а также синтаксическую триаду — параллелизм, анафору, полисин-детон. Фраза у него иногда приобретает совершенный ритмический рисунок и звучит, как стихи. Номинативные распространенные предложения, списки-перечисления (излюбленный прием Уитмена), повторяющиеся союзы, — все это создает особый ритм; такт, каданс. "Иногда летом, после обычного купанья, я с восхода до полудня просиживал у своего залитого солнцем порога, среди сосен, орешника и сумаха, в блаженной задумчивости, в ничем не нарушаемом одиночестве и тишине, а птицы пели вокруг или бесшумно пролетали через мою хижину, пока солнце, заглянув в западное окно, или отдаленный стук колес на дороге не напоминали мне, сколько прошло времени" (6; с. 74). Перевод З. Е. Александровой хорошо передает эвфонию и аллитерацию, на которых построено описание в оригинале.
Иногда аллитерации идут импульсами — сначала повторяется один звук, потом другой, потом третий. Удачно передан переводчицей и звуковой рисунок в следующем отрывке из той же главы: "... у меня водились только белки на крыше и под полом, козодой на коньке крыши, крикливая сойка под окном, заяц или сурок под домом, сова-сипуха или ушастая сова за домом, стая диких гусей или гагара на пруду, а по ночам лаяла лисица" (6; с. 84). Благодаря этим приемам стилистической фонетики писатель избежал монотонности, создал особую поэтическую экспрессивность. Музыкальность повествования имела для Торо особое значение. В его типично романтической концепции искусства музыка и поэзия — высшие, боговдохновенные виды творчества, призванные выражать самые возвышенные мысли.
Описания природы у Торо — не только звучащая музыка, но и сочная живопись, напоминающая насыщенную деталями, шутливую, порой грубоватую манеру "маленьких голландцев". На страницах "Уолдена" природа оживает благодаря приему олицетворения. Больше всего очеловечен Уолденский пруд. Некоторые исследователи даже называют его героем книги. Это и символ, и живой сосед Торо. Его берега — это "губы пруда, на которых не растет борода. Время от времени он их облизывает" (6; с. 118). По вечерам слышно было, как "кряхтел на пруду лед..., точно ему было неловко в постели и хотелось повернуться на другой бок, точно его беспокоили ветры и дурные сны" (6; с. 174). Флинтов пруд по утрам "потягивался и зевал", а в полдень "немного соснул" (6; с. 191). Особенно подкупает у писателя то, что природе он приписывает простые человеческие свойства, даже отправления организма. Стоявший за простоту и естественность, Торо, говоря его словами, "возвышал низменное и не пытался лицемерно оправдываться, называя эти вещи пустяками" (6; с. 142). В этом он шел наперекор "хорошему вкусу" и литературной традиции, как это делал и Уитмен. В "Уолдене" мы найдем несколько жанровых зарисовок в духе старых голландских мастеров. Особенно хороша юмористическая картинка пьяной пирушки, герои которой — уолденские лягушки, "души давних пьяниц и гуляк, доныне нераскаянные, которые пытаются спеть песню в своем Стигийском озере" (6; с. 83).
понятий несовместимых: "Я присматривал за дикими животными... Я поливал красную чернику, желтую вишню и крапиву, красную сосну и черный ясень, белый виноград и желтую фиалку, а то они, пожалуй, погибли бы в засуху". Шутливый тон-, в каком Торо пишет о самых дорогих для него вещах, придает книге особую прелесть.
смысл выступает на по-верхно ть спорадически, в виде коротких, емких и стилистически насыщенных абзацев, следующих за пространным описанием. Эта особенность стиля соотносится с философией Торо. Каждая вещь или явление материального мира, полагал он, имеет параллели в мире духовном и несет определенный нравственный смысл. В этом убеждении Торо следовал за Эмерсоном, разработавшим доктрину "соответствия". Торо-художник облекал размышления о соответствии и взаимосвязи в природе и обществе в плоть сравнений, метафор, символов, в основе которых — прием уподобления, сопоставления, переноса значения. "Поверхность земли мягка и легко принимает отпечатки человеческих ног; так обстоит и с путями, которыми движется человеческий ум. Как заезжены и пыльны должны быть столбовые дороги мира — как глубоки на них колеи традиций и привычных условностей!" (6; с. 204).
Под абстрактные идеи Торо всегда подводил "эмпирическое основание", шел от конкретного к абстрактному. Все его символы — река, озеро, остров, сосна, звук, лист, стебель травы, Уолденский пруд, сама природа — работают на двух уровнях: эмпирическом и метафизическом. В "Неделе" рассуждения о дружбе, религии, искусстве не всегда органически вырастают из описаний путешествия и пейзажных зарисовок, но в "Уолдене" один план повествования естественно переходит в другой. Так, в главе "Бессловесные соседи" писатель с точностью натуралиста и мастерством поэта описывает повадки птиц, мышей, белок, диких кошек. Дав читателю ключ в короткой фразе — "обитатели природы — все в определенном смысле вьючные животные, и им приходится нести какую-то часть наших мыслей" (II, р. 249), — Торо предоставляет нам самим догадываться о скрытом смысле, но в одном случае выводит его на поверхность с помощью развернутой метафоры, осложненной сравнением и гиперболой. Побоище красных и черных муравьев Торо называет "гражданской войной между красными республиканцами и черными империалистами" (6; с. 147). Битва муравьев — зримый шифр. Прочитав его, мы поймем отношение писателя к войне и насилию. Кстати сказать, Торо многозначительно подчеркивал, что зловещая битва "республиканцев" и "империалистов" муравьиного мира происходила в 1845 г., т. е. за год до начала войны, развязанной США против Мексики. Так символ обретает конкретность уже на новом уровне восприятия.
Писатель прибегает к иронии, сравнению, метафоре, литоте, когда он говорит о военной авантюре США и о шовинистическом угаре, охватившем Америку в тревожные дни 1846 г.. В уолденском уединении Торо слышал пальбу пушек и видел дым выстрелов во время маневров, и ему казалось, что "на горизонте что-то чешется и вот-вот появится сыпь" (6; с. 104). Невидимых участников военных упражнений он сравнивал с трутнями, обыгрывая все три значения слова drone. В таком контексте весьма иронично звучат слова: "Я с гордостью сознавал, что свобода Массачусетса и всей нашей родины находится в столь надежных руках" (6; с. 104). Иронизируя над газетными штампами того времени, Торо писал в свойственной ему шутливой манере: "Но иногда ко мне в лес доносились подлинно вдохновенные звуки: трубы пели о славе, и я ощущал желание проткнуть какого-нибудь мексиканца — стоит ли останавливаться перед таким пустяком? — и искал глазами сурка или скунса, на котором мог бы испробовать свой воинственный пыл" (6; с. 104). И здесь же давал читателю понять, что война с Мексикой столь же справедлива, как и крестовые походы в Палестину.
Писатель часто обращался к приему развернутого противопоставления понятий. На страницах "Недели" и "Уолдена" рассыпано множество антитез — непременного атрибута философской прозы. Они позволяли облечь в эффектную форму размышления о свободе и рабстве, бедности и богатстве, преходящем и вечном, высших законах и человеческих установлениях, "обществе" и "одиночестве", "каменистом грунте реальности" и "вязких наносах предрассудков и мнений". Торо-философ стремился отделить истину от лжи, "погрузиться в самую суть жизни и добраться до ее сердцевины" (6; с. 60). Постоянно встречающиеся понятия — твердое основание, твердое дно, камни и т. д. (solid foundation, hard bottom, terra firma, rocks), противостоят в сложных антитезах понятиям слякоть, грязь, тина, болота, топи, зыбучие пески, паводок, намыв (slush, mud, swamps, bogs, quicksands, freshet, alluvion) как чему-то зыбкому, вязкому, засасывающему, ненадежному. Метафора и полисиндетон оформляют мысль Торо о необходимости стремиться к истине, отвергая компромиссы со временем и удобный конформизм обывателя: "Под грязным слоем мнений, предрассудков и традиций, заблуждений и иллюзий — под всеми наносами, покрывающими землю в Париже и Лондоне, Нью-Йорке, Бостоне и Конкорде, под церковью и государством, под поэзией, философией и религией постараемся нащупать твердый, местами каменистый грунт, который мы можем назвать реальностью, и сказать: вот это есть и сомнений тут быть не может..." (6; с. 64).
Кажущееся и реальное, ложное и истинное, относительное и абсолютное исследуются писателем в их взаимосвязях, взвешиваются на весах авторского анализа. Умозрительные эксперименты такого рода приводят подчас к неожиданным выводам: "Если ты выстроил воздушные замки, твой труд не пропал даром: именно там иу и место. Тебе остается подвести под них фундамент" (6; с. 206).
— излюбленный прием Торо. Он перевертывал привычные представления, достигая этим эффекта "остранения", когда странность мысли заставляет задуматься, взглянуть на вещи по-иному. Переосмысливая святые для янки понятия — собственность, капитал, церковь, — Торо писал: "... богатство человека измеряется числом вещей, от которых ему легко отказаться" (6; с. 54). Иногда моральные инвективы принимают форму парадоксов, осложненных развернутой метафорой: "Не мы едем по железной дороге, а она — по нашим телам... Каждая шпала — это человек, ирландец или янки. Рельсы проложили по людским телам, засыпали песком и пустили по ним вагоны..." (6, с. 61). А вот пример другого парадокса, построенного на метонимии: "Нам редко встречается человек — большей частью одни сюртуки и брюки" (6; с. 17). Торо достигает юмористического эффекта тем, что как *бы встает на точку зрения обывателя, который судит о достоинствах человека по его платью, и доводит рассуждение до абсурда: "Недавно, проходя мимо кукурузного поля, я увидел шляпу и сюртук, нацепленные на палку, и сразу узнал хозяина фермы. Непогода несколько потрепала его с тех пор, как мы виделись в последний раз" (6; с. 17).
Будучи еще выпускником Гарварда, Торо слышал слова Эмерсона: "Люди похожи на лунатиков; они стремятся к богатству и власти, считая их величайшим счастьем. Пробудите их, и они отбросят ложные идеалы и обретут истинные"24 Свою задачу автор определил в эпиграфе к первому изданию "Уолдена", на который ссылается в тексте: "... я буду горланить, как утренний петух на насесте, хотя бы для того, чтобы разбудить соседей" (6; с. 56). Мотив пробуждения возникает на страницах книги постоянно, особенно часто в обрамляющих главах. Максималист во всех отношениях, Торо предъявлял весьма высокие требования к литературе. Он не признавал искусства, которое "сладко баюкало, усыпляя высокие чувства" (6; с. 69). Продолжая начатую в "Неделе" тему о плохих и хороших книгах, Торо подверг резкой критике американскую книжную продукцию. Мишени, которые он выбирал, определенным образом характеризуют эстетический идеал писателя. Он обрушивался на развлекательную литературу, низкопробные романы с трафаретными сюжетами. Подобные "пряники", писал он, гораздо более в чести, чем "чистый пшеничный, ржаной и кукурузный хлеб" (6; с. 70), под которым он, разумеется, понимал прежде всего произведения трансценденталистов.
Одним из этических и эстетических принципов Торо была простота. "Живя в роскоши, ничего не создашь, кроме предметов роскоши, будь то в сельском хозяйстве, торговле, литературе или искусстве" (6; с. 12). В простоте он видел правду и благородство, во всякого рода излишествах — уродство и ложь. Идеалом красоты в архитектуре он считал бревенчатую хижину пионера. Все в здании, говорил он, должно быть функционально оправдано; в природе все красиво, ибо там царит целесообразность, а люди окружают себя ненужной роскошью и не замечают, что это уродливо. Сходную мысль выражал современник Торо, скульптор Горацио Грино, автор известной книги по архитектуре, в которой развивались смелые по тем временам идеи об органичном сочетании форм и функций в архитектуре. Грино ополчился на купеческий идеал красоты. Он называл прекрасным не дом-дворец с колоннами в древнегреческом стиле (такую архитектуру высмеял Дж. П. Кеннеди в романе "Quodlibet"), а скромный фермерский домик. Однако Торо не увидел в Грино единомышленника. Напротив, он поставил ему в вину и, надо сказать, без достаточного основания, тот факт, что Грино рассматривал эстетические категории в отрыве от нравственных, и не очень справедливо назвал его "сентиментальным реформатором архитектуры", который "начал с карниза, а не с фундамента" (6; с. 32).
В "Заключении" Торо спрессовывает в афоризмы основные идеи книги, в частности мысли о свойствах времени, неизбежноети перемен и обновления, о соотношении вечности и времени. В системе бинарных понятий, которую трансценденталисты заимствовали у Кольриджа, — разум-рассудок, высший закон-целесообразность, вечность-время — первые противопоставлялись вторым как категории высшего порядка. Все явления, соотносимые с ними, получали значение абсолютного, подлинного и безусловно морального, в противовес относительному, поверхностному, преходящему, что ассоциировалось с понятиями второго ряда. Указанная дихотомия — несущая конструкция этических и эстетических построений Торо.
смертных. Прошли века, сменились династии, когда мастер закончил, наконец, работу. "А глядя на кучу еще свежих стружек у своих ног, он понял, что для него и его творения протекшее время было всего лишь иллюзией и что времени прошло не больше, чем надо одной искре из мозга Брамы, чтобы воспламенить трут смертного ума" (6; с. 207). Притча иллюстрирует одно из положений эстетической теории Торо, о котором говорилось ранее: "гении" творят для вечности, "ремесленники" пишут для времени. Так иносказательно выражена мысль писателя о том, что философские книги предназначены для вечности, и в них не должна вторгаться политика. Злободневность же — удел публицистики, которая создается на потребу дня.
— "черта, где встречаются две вечности — настоящее и будущее" (6; с. 14). "Держаться этой черты" на образном языке Торо значило ощущать связь времен, зависимость настоящего от прошлого, сознавать ответственность перед будущим. Наметив эту тему в первой главе, автор неоднократно возвращался к ней, проясняя скрытый смысл. "Люди считают, что истина отделена от них пространством и временем, что она где-то за дальними звездами, до Адама и после последнего человека на земле. Даг вечность заключает в себе высокую истину. Но время, место и случай, все это — сейчас и здесь... Мы способны постичь божественное и высокое, только если постоянно проникаемся окружающей нас реальностью" (6; с. 63-64).
Человек, по мысли Торо, стоит не только на рубеже двух веч-ностей, но и на грани двух бесконечных миров. Он часть вселенной, а внутри него — необъятный мир души: "Каждый из нас владеет страной, рядом с которой земные владения русского царя кажутся карликовым государством, бугорком, оставленным льдами..." (6; с. 203). Доктрина соответствия помогла писателю установить параллель между этими двумя бесконечностями. Нравственные постулаты принимают метафорическую, объемную форму. Платоновская идея восхождения по лестнице познания приобретает у Торо вид движения по витому пандусу, по спирали — вверх, к высшей истине, к познанию самого себя, в глубины духа, in medias res*. Движение по кругу — удел обыденного сознания, не пробудившегося к настоящей жизни. "Во всех наших путешествиях мы только описываем круги" вместо того, чтобы "стать Колумбами целых континентов и миров внутри себя" (6; с. 203). Уолденская робинзонада — это тоже путешествие, но не по замкнутому кругу, а вглубь и вверх. Жизнь и развитие идут циклами, но это не "вечное возвращение", а постоянное восхождение по спирали. Так мыслил Торо процесс совершенствования человека.
Бег времени — одна из тем, занимавших писателя. Большинство людей живет в бешеном темпе, торопясь делать деньги, скопить состояние, терпя при этом банкротство — материальное и духовное. Лишь немногие неторопливо размышляют над основными фактами жизни, стремятся постигнуть суть вещей. Не случайно Торо повторяет, как заклинание, слово "неторопливо". Почти каждый раз с ним в связке оказываются понятия с противоположным знаком — "спешка", "суета". "Если человек не шагает в ногу со своими спутниками, может быть, это оттого, что ему слышны звуки иного марша? Пусть же он шагает под ту музыку, какая ему слышится, хотя бы и замедленную, хотя бы и отдаленную" (6; с. 206). Размеренная и далекая музыка символизирует высшую гармонию, звук действия высших законов, в унисон с которыми должен жить человек.
Мысль Торо движется от конкретного к абстрактному, меняя художественный облик: от наблюдения, дневника25— к притче, иносказанию, символу. Мотив обновления человека, природы, общества — структурообразующий принцип книги. Он достигает крещендо в последней главе. Предчувствие грядущих перемен — в результате потрясений и войн, более грозных, чем те, что привели к образованию США, — выражено иносказательно. Рассказывая историю о жуке, который вывелся в крышке стола, автор переводит повествование в метафорический план: "Кто знает, какая прекрасная, крылатая жизнь, много веков пролежавшая под одеревеневшими пластами мертвого старого общества, а некогда заложенная в заболонь живого зеленого дерева, которое превратилось постепенно в хорошо выдержанный гроб, — кто знает, какая жизнь уже сейчас скребется, к удивлению людской семьи за праздничным столом, и нежданно может явиться на свет посреди самой будничной обстановки, потому что настала, наконец, ее летняя пора" (6; с. 210). Перемены совершаются постоянно, но они скрыты под поверхностью жизни и незаметны простому глазу. Обыденное восприятие "Джона и Джонатана" не может постичь глубинную связь вещей. Самодовольство, ограниченность, слепота, духовный сон — все это свойства неразвитого сознания, не способного "увидеть слепящий свет", который представляется ему тьмой. Однако можно ускорить приход нового времени, говорит Торо, для этого нужно совершенствовать себя. "Восходит лишь та заря, к которой пробудились мы сами. Настоящий день еще впереди, наше солнце — это только утренняя звезда" (6; с. 210). Этими словами кончается книга.
Размышления Торо о назначении человека, мудрость его афоризмов, правда парадоксов о времени и обществе, замечательные по своей поэтичности описания природы — все это делает "Уолден", как сказал бы сам Торо, "достоянием вечности". Гармоническое единство философской мысли и художественного ее оформления, функциональное соответствие формы содержанию выделяют его прозу из всего литературного наследия американского трансцендентализма. Своеобразие метода, стилистическое новаторство, двуплановость повествования, символизм, парадоксальность мысли, снижение высокого и возвышение низкого, сложный комплекс приемов, с помощью которых писатель достигает большой эмоциональной выразительности, характеризуют произведение, которое можно назвать высшим достижением американского философского эссе.
***
Великие идеи, заметил однажды Эмерсон, можно утверждать не только тем, что люди делают и говорят, но и тем, что они отказываются делать и говорить. Уолденское "отшельничество" Торо было по существу, "великим отказом", вызовом не только американскому образу жизни, но и социальной системе страны. "Я люблю Природу отчасти потому, — писал он в дневнике, — что она — противоположность человеку. Ни один из его институтов не проникает сюда..." На берегу Уолдена Торо искал убежища от "гнусных порядков", но, как замечал он в своей книге, убежать от них совсем невозможно. Государство в лице местного констебля настигло его и потребовало уплаты налога. Как известно, писатель отказался платить налог правительству, развязавшему летом 1846 г. захватническую войну против Мексики. Конфронтация с властями кончилась для Торо тюремным заключением: уолденский бунтарь провел за решеткой всего одну ночь, поскольку кто-то из его родственников внес в казну требуемый доллар. Современники вспоминали, что Торо не очень обрадовался быстрому освобождению, так как не хотел уступать правительству в его "незаконных притязаниях". Краткость заключения, однако, не умаляет значимости гражданского протеста писателя. В его биографии этот эпизод имеет символическое значение. Торо не просто предпочел тюрьму сотрудничеству с правительством, действия которого осуждал. Он сформулировал целую программу гражданского сопротивления. По его глубокому убеждению, массовое неповиновение властям, допускавшим и поощрявшим рабовладение, должно было непременно привести к падению "дурного" правительства и установлению социальной справедливости.
Конкордский Давид (а именно так нарекли Торо при крещении) бросил вызов Голиафу. Из неравной схватки с государством он вышел победителем, отстояв право личности на гражданский протест. Речи и эссе Торо, посвященные проблеме рабства в Америке, — порождение эпохи. Они тесно связаны с борьбой идей, вызванной различным отношением американцев к основному противоречию социальной жизни тех лет. 30—50-е годы стали временем активизации антирабовладельческих настроений. Сторонники немедленного освобождения рабов черпали вдохновение в сочинениях просветителей и отцов американской демократии, Франклина и Джефферсона. Они опирались на теорию естественного права, закрепленную в Декларации независимости, признававшей право каждого на свободу, равенство и стремление к счастью. Аболиционизм был многим обязан американскому религиозному бунтарству: полемическая страстность антирабовладельческих выступлений квакеров оказала большое влияние на многих борцов против рабства. Трудно назвать сколько-нибудь значительного писателя или общественного деятеля, который оказался бы в стороне от проблем, порожденных рабовладением. Существование рабства было одной из причин духовного неблагополучия в Америке. Молчаливое попустительство и официальное потворство рабовладению развращали души американцев. Моральный урон, наносимый стране, казался все более очевидным по мере того, как действия южан становились агрессивнее, а политика федерального правительства — более нерешительной.
С трибун и церковных кафедр выступали представители различных социальных сил: аболиционисты и сторонники рабовладения, сторонники эмансипации, не принадлежавшие к аболиционистским организациям, сторонники земельной реформы. Самое живое участие приняли в полемике и трансценденталисты. Конкордские философы рассматривали рабство не только как физическую категорию (slavery), но и как духовную (servility). Последнее казалось им наибольшим злом, распространенным как на Юге, так и на Севере. Именно его, считали они, следует уничтожить в первую очередь.
—40-х годов возник спор о соотношении политической целесообразности и высшей справедливости. Вопрос, волновавший в свое время Локка, Годвина, Кольриджа, привлек внимание Уиттьера, Эмерсона, Торо, Бичер-Стоу, а также многих аболиционистов. Сторонники политической борьбы нередко подчиняли решение проблемы рабства соображениям политической целесообразности и сохранения союза штатов. Приверженцы Гаррисона поносили принцип целесообразности и считали отделение от южных штатов основной задачей дня. Сходную позицию занимали в этом вопросе трансценденталисты. В их филооофской системе целесообразность была понятием низшего порядка по сравнению с моральным законом. Поэтому, когда исторические события вынудили их включиться в борьбу против рабства, они отождествили дело освобождения негров с принципом высшей справедливости и призывали разорвать союз с Югом.
рабы не смогут сразу стать полноценными членами общества. Молодой выпускник Гарварда не считал проблему рабства достойной внимания философа, однако в 40-х годах он постепенно отошел от этой позиции. Впервые по вопросу о рабстве Торо выступил в 1844 г. в статье "Вестник свободы" ("Herald of Freedom"), опубликованной в "Дайеле". В ней Торо высоко отозвался о редакторе одноименной газеты — Натаниэле Роджерсе. Это еще не означало, что Торо активно включился в движение противников рабовладения, он просто высказал свою симпатию редактору-аболиционисту, подвергшемуся нападкам Гаррисона за отказ от коллективных усилий сопротивления этому злу. Скоре всего, Торо привлекла не позиция Роджерса в вопросе о рабстве, а его индивидуализм, его инакомыслие, навлекшее *на него гнев редактора "Либерейтора", его стремление поступать в соответствии со своими взглядами. В 1845 г. появилась еще одна статья Торо, посвященная проблеме рабства, "Уэнделл Филлипс в конкордском лицее". Она свидетельствует о том, что освобождение негров оставалось для Торо пока еще проблемой чисто теоретической.
Будучи куратором лицея, где читались лекции и проводились диспуты, Торо — вместе с Эмерсоном — пригласил Уэнделла Филлипса выступить перед конкордской публикой. Выбор был не случаен. Сподвижник Гаррисона, Филлипс стал ведущей фигурой борьбы за гражданские права, его лекции и речи имели широкий общественный резонанс. Выступление его в Конкорде в 1845 г. произвело на Торо неизгладимое впечатление. Филлипс говорил о необходимости гражданского неповиновения властям, провоцирующим вооруженные столкновения на границе с Мексикой. Примерно в то же время появился трактат Филлипса "Конституция — сговор с рабовладельцами", в котором была изложена программа гражданского неповиновения. Эти мысли послужили основой, на которой Торо построил свою теорию.
"Либерейторе" в марте 1845 г. Автор просил прислать в Конкорд столь же блестящего оратора, но из противоположного лагеря. "Пока что мы видели рыцаря, который демонстрировал умение держаться на коне. Но он гарцевал на пустой арене. Мы же хотим увидеть, кто выйдет победителем в настоящем бою" (IV, р. 315). Для Торо, как очевидно, освобождение негров оставалось пока лишь темой для дебатов.
Подобно многим писателям — Карлейлю, Брайанту, Леггету, — Торо был убежден в относительности понятия свободы. Неужели, восклицал он, свобода северян столь заманчива, чтобы дарить ее рабам Юга? Не лучше ли Новой Англии сначала исцелить себя? Он предлагал путь, который был бесконечно долог: "Нам нужна эмансипация мысли и воображения, — записал он в дневнике в мае 1845 г.— ... Именно она освободит миллионы рабов" (VII, pp. 362—363). Через год началась война с Мексикой. Аннексия Техаса правительством Полка (1848), принятие закона о беглых рабах (1850) сделали рабство острой политической проблемой. Многие из тех, кто раньше стоял в стороне, теперь вступили в борьбу. Среди них был и Генри Торо.
"Права и обязанности личности по отношению к правительству". В 1849 г. Элизабет Пибоди опубликовала ее в первом (и единственном) номере журнала "Эстетик пейперс" под заглавием "Неповиновение гражданскому правительству" ("Resistance to Civil Government"), а в 1865 г. она была включена в сборник «"Янки в Канаде" и другие антирабовладельческие эссе Торо» под окончательным названием "Гражданское неповиновение" ("Civil Disobedience").
В своем выступлении писатель осудил цели войны и подверг пересмотру отношения личности с государством. Он призвал сограждан отказаться от традиционной лояльности, которая казалась в то время чем-то само собой разумеющимся. Воспоминания о недавних освободительных войнах питали чувство национальной гордости, и люди верили в "особую миссию" Америки. Идея эта была выдвинута в 30-е годы XIX в. демократами, дабы оправдать колониальные захваты необходимостью продолжать великий эксперимент свободы. Патриотизм американцев незаметно для них перерос в шовинизм. Это особенно ярко проявилось во время кризиса 1846—1848 годов. Дж. Р. Лоуэлл писал в "Записках Биглоу" (1848) о популярности мексиканской войны среди широких слоев населения и зло высмеивал правительство, которое играло на низменных инстинктах людей, разжигая чувство расового превосходства, "англосаксонскую спесь". В такой атмосфере ура-патриотизма и массовой истерии Торо предложил американцам начать кампанию гражданского неповиновения. Он убеждал сограждан не сотрудничать с правительством, не поддерживать его налогами, не участвовать в его военных авантюрах. Нужно было обладать большим мужеством и темпераментом борца, чтобы отважиться на такой шаг. "Если бы в этом году, — говорил он с трибуны лицея, — тысяча человек отказалась платить налоги, не было бы ни насилия, ни кровопролития, какие вызовет уплата налога, которая позволит государству совершать насилие и проливать невинную кровь"26.
повиноваться закону— значит стать орудием злой воли; нужно смелее полагаться на врожденное нравственное чувство и отказаться сотрудничать с государством, нарушающим естественные права личности. Торо призвал американцев к "бескровной революции" которая может совершиться, если подданный откажется повиноваться а чиновник откажется от должности.
Писатель переосмыслил роль индивидуального протеста, придавая ему символическое значение. Смелый голос одиночки, верил он, может всколыхнуть нацию, если его примеру последуют многие. "Я хорошо знаю, что если бы тысяча, или сто, или десять человек, которых я мог бы перечислить, — всего десять честных людей — или даже один ЧЕСТНЫЙ человек в нашем штате Массачусетс отказался владеть рабами, вышел бы из этого сообщества и был бы за это посажен в тюрьму, это означало бы уничтожение рабства в Америке" (26; с. 344—345). Государство, считал Торо, вынуждено будет отступить, так как не посмеет и не сможет держать всех честных людей в тюрьме. Именно так представлял себе практику гражданского неповиновения Л. КТолстой, высоко ценивший эссе Торо. Переосмысливая привычные понятия, Торо облекал крамольную мысль в форму парадокса: "При правительстве, которое несправедливо заключает в тюрьму, самое подходящее место для честного человека — в тюрьме" (26; с. 345).
Кара за неповиновение, в его глазах, является отличием, ибо извращены понятия закона и долга.
"естественного права": если конституция, санкционировавшая рабство, нарушает врожденные права личности, допуская рабство, значит она пришла в противоречие с принципом высшей справедливости и не может более служить законом для граждан. Юридические установления, рассуждал Торо, — это закон низшего порядка по сравнению с "естественными законами", подчиняться которым — первый долг человека. Приняв такое разграничение, писатель с неизбежностью пришел к публичной проповеди нонконформизма.
"естественного права", закрепленных в документах Американской революции. Писатель напомнил согражданам основной принцип общественного договора: власть правительства "должна получить санкцию и согласие управляемых" (26; с. 356). Ссылаясь на авторитет Локка, он обосновал право отдельной личности разорвать союз с государством, (а не покорно следовать примеру отцов), а также право граждан на революцию в случае, если правительство не исполняет волю народа.
Примечательно, что в речи 1848 г. и в "Уолдене" Торо выдвигал разные мотивы для неповиновения: в первом случае — неправедность государства, во втором — свою бедность. "Одинокий революционер" организовал свою жизнь на Уолдене таким образом, чтобы "не нуждаться в защите государства". Торо не имел собственности, на которую кто-либо мог покуситься, и потому у него никогда ничего не пропадало и никто не причинял ему вреда, кроме "официальных представителей штата" (6; с. 112). "Если бы все жили так просто, как я жил тогда, — писал он в "Уолдене", — кражи и грабежи были бы неизвестны. Они имеют место только в тех обществах, где у одних есть излишки, а другие не имеют даже необходимого" (6; с. 112). В книге чувствуется полемика с идеологией буржуазного правопорядка. Основная цель государства, как представлял ее Локк, — защита личной безопасности и сохранение собственности граждан, которые ради этого признают над собой власть законов и отказываются от свободы естественного состояния. Торо обосновал свой бунт против государства следующим образом: если у человека нет собственности и он живет просто и праведно, защита властей ему не нужна.
Торо связывал свою доктрину гражданского неповиновения также с пересмотром некоторых положений теории общественного договора, в частности принципа народовластия. Американская действительность первой половины XIX в. давала основания для сомнений в том, что воля большинства, которую Локк и Руссо объявили суверенной, обеспечивала достаточные гарантии соблюдения прав личности. Эмерсон, Купер, Лоуэлл, Кеннеди усомнились в непогрешимости коллективного разума, ибо стали свидетелями того, как конформизм, слепое подчинение мнению большинства отравляли духовный климат страны. Это явление нашло отражение в сатирических романах "Моникины" и "Американский демократ" Купера и "Quodlibet" Кеннеди. О нем писал Э. По в новеллах "Mellonta Tauta" и "Разговор с мумией". В стране возникла "тирания мнения", явление, которое получило с легкой руки Ирвинга название "толпократии". "Раболепное преклонение перед мнением общественным, политическим и религиозным налагает ограничения столь же реальные, как конституционные формы угнетения и подавления в других странах, где Сибирь духовного изгнания... ожидает любого, отклонившегося от своей партии или секты", — писал трансценденталист Фредерик Хедж. Вполне понятно, что в атмосфере морального конформизма неизбежно должны были появиться учения, требовавшие самостоятельности суждений, смелости мысли и действий. Именно в этом был смысл эмерсоновской доктрины "доверия к себе", придававшей духовной независимости личности значение подлинного героизма. Учение Торо о гражданском неповиновении явилось логическим развитием этой доктрины.
Торо видел ограниченность парламентской демократии, возводившей в закон волю большинства как чисто количественный принцип. Он оправдывал неподчинение этой воле тем, что она не считалась с мнением меньшинства, которое отстаивает высшие ценности и к которому он причислял и себя. Эта мысль выражена им с большой публицистической силой. "Но правительство, где правит большинство, не может быть основано на справедливости даже в том ограниченном смысле, в каком ее понимают люди. Неужели невозможно такое правительство, где о правде и неправде судило бы не большинство, а совесть? Где большинство решало бы лишь те вопросы, к которым приложима мерка целесообразности? Неужели гражданин должен, хотя бы на миг или в малейшей степени, передавать свою совесть в руки законодателя? К чему тогда каждому человеку совесть?" (28; с. 336). Так говорил убежденный сторонник немедленного индивидуального действия, создатель моральной утопии, не искавший приемлемых политических решений.
"Принципы моральной и политической философии" Уильямом Пэйли, который оправдывал повиновение гражданским властям политической целесообразностью. Бывают случаи, когда этот принцип неприменим и когда народ, как и отдельный человек, должен добиться справедливости любой ценой. При этом справедливость ассоциировалась у Торо с немедленным уничтожением рабства и прекращением войны с Мексикой. Категорический императив, сформулированный им, был направлен против многочисленных последователей Пэйли в Америке. Автор "Гражданского неповиновения" резко осудил политическое маневрирование ради сохранения федерации штатов. Хотя в исторической перспективе подобная бескопромиссность была недальновидной, Торо был прав относительно того, что постоянные уступки южанам вели к укреплению их роли в союзе и ущемлению прав человека.
При всей активности общественной позиции Торо в конце 40-х годов (а он оказался радиальнее многих аболиционистов) его отношение к политической деятельности было отрицательным. Главное, считал он, — это индивидуальный 'протест, отказ личности морально и материально поддерживать государственное насилие. Всякий поступок, продиктованный благородным принципом, революционен по своей сути: "Он не только раскалывает государства и церкви, он разделяет семьи; более того, он вносит раскол и в отдельную личность, душу, отмежевывая в ней дьявольское от божественного" (26, с. 342). Иначе говоря, нравственное совершенствование — главное условие революции социальной. Подобно Годвину и Карлейлю, Чаннингу и Эмерсону, Торо не возлагал надежд на радикальные изменения общественной системы "через избирательную урну".
Не вызывает сомнения, что подчеркнутый аполитизм транс-ценденталистов и гаррисоновских аболиционистов представлял собой критику правительства не менее действенную, чем речи Чарльза Самнера в Конгрессе. Все они стремились к высокой цели и верили в иные средства, чем Дж. Г. Уиттьер или "американские якобинцы" в Сенате США, Дж. Смит и Т. Стивенс. В поддержку такого взгляда можно сослаться на оценку, которую Энгельс дал У. Филлипсу, отрицавшему методы политической борьбы. Филлипс, писал он, "сделал больше, чем кто-либо, за исключением Джона Брауна, для уничтожения рабства и проведения гражданской войны". В то же время неполитические методы "моральной пропаганды" Гаррисона и Филлипса казались Торо недостаточно действенными, а отрицание ими политики — непоследовательным и неполным. В речи Торо слышится скрытая полемика с лидером аболиционизма. "Кое-кто петициями требует от штата выйти из союза... Отчего они сами не расторгнут собственный союз с государством и не откажутся вносить деньги в казну?" (26; с. 432). Дело в том, что при всей своей критике властей Гаррисон аккуратно платил налоги, руководствуясь евангельским "кесарево — кесарю, а божие — Богу". Поскольку Торо абсолютизировал значение этого аспекта неповиновения, он хотел доказать читателям и слушателям, что всякий исправный налогоплательщик позволяет государству проливать невинную кровь и творить насилие.
Торо обратился также к тем, кто предпочел добиваться отмены рабства, используя все возможности парламентской системы. Торо был лично знаком со многими из них — Чарльзом Самнером, Томасом Хиггинсоном, Паркером Пиллсбери, Джеймсом Расселом Лоуэллом. Обращаясь к ним и их единомышленникам, он предложил им немедленно прекратить моральную и материальную поддержку властей Массачусетса, а не ждать для защиты правого дела, чтобы составилось большинство в один голос. Выступая в Конкорде в 1848 г., Торо определил свое отношение к аболиционистам различных ориентации и к тем, кто говорил о преждевременности эмансипации и неподготовленности масс к свободе. В 30-х годах мнение это было широко распространено, и его разделял сам Торо. Теперь он рассуждал иначе: для свободы, говорил он, нельзя созреть, живя в рабстве; если мы хотим достигнуть морального прогресса, нужно отпустить рабов на свободу любой ценой, даже ценой существования американцев как нации.
ему уже не мелочной заботой чудака-реформатора, но требованием высшей справедливости. Писатель воззвал к совести американцев, убеждая их сказать рабству "Нет!" С публицистической остротой он обличал безнравственность молчаливого попустительства злу. Он указал людям на их гражданский долг, который теперь понимал во многом так же, как Гаррисон и Филлипс. В истории Америки, говорил он, настало время, когда личность должна пересмотреть свой договор с государством и оказать ему активное сопротивление. При этом сопротивление мыслилось как борьба без применения насилия.
сотни участников демонстраций против сегрегации, организованных Мартином Лютером Кингом, с готовностью шли в тюрьмы, ставя в тупик полицию, подобно тому, как примерно за полвека до них делами индийцы в Южной Африке, боровшиеся под руководством Мохандаса Ганди за свои права. Позже ту же тактику Ганди применил в Индии, где возглавил массовое антиколониальное движение. По его словам, Америка и Россия дали ему учителей в лице Генри Торо и Льва Толстого, у которых он нашел теоретическую основу для практики ненасильственных действий. Лев Толстой, в свою очередь, многое заимствовал у конкордского философа, о чем свидетельствует его высокая оценка Торо — мыслителя и создателя теории гражданского неповиновения.
Политические события 1850—1854 годов — принятие закона о беглых рабах и законопроекта "Канзас-Небраска" (1854), фактически разрешившего рабство на новых территориях, — заставили Торо вновь обратиться к соотечественникам. В День независимости, 4 июля 1854 г., на митинге аболиционистов в местечке Фрамингам он произнес речь, которая сразу привлекла к себе внимание широкой общественности и была опубликована в "Либерейторе", затем в нью-йоркской "Трибюн". Материалом для нее послужили обширные дневниковые записи Торо, касавшиеся охоты на беглых рабов в Бостоне в 1851 г., а'поводом — поимка раба Энтони Бернса. Последнее событие вызвало бурные выступления бостонцев. 26 мая 1854 г. собрался многолюдный митинг, на котором Теодор Паркер и Уэнделл Филлипс выступили с призывом на деле доказать любовь к свободе и ненависть к рабству. Двухтысячная толпа во главе с Томасом Хиггинсоном пыталась ворваться в здание суда и освободить арестованного. Страсти не утихали целую неделю. По словам американского историка Дж. Роудса, Бостон не знал таких волнений со времен революции. Но закон о беглых рабах все же был соблюден, за что губернатор штата получил одобрение самого президента.
только не осудивших трусость бостонских властей, но даже поддержавших их. Он предъявил целый обвинительный акт тем американцам, которые в силу своей пассивности и лояльности явились косвенными сообщниками рабовладельцев. И опять, как в своей первой речи, он призвал всех честных граждан бороться. Однако Торо не повторялся. Его доктрина претерпела некоторые изменения. Понятие государства как объекта неповиновения в речи 1848 г. выступало нерасчлененно. Теперь писатель более подробно рассмотрел иерархию государственной власти и институтов, на которые она опиралась. Торо начал прямо с законодательной власти — Сената США. В качестве объекта критики он избрал Дэниэла Уэбстера, сенатора от штата Массачусетс. В политической жизни Америки середины прошлого века Уэбстер оставил заметный след. Блестящий оратор и выдающийся юрист, он долгие годы был кумиром передовой интеллигенции. Однако после своей речи 1850 г., когда он высказался в поддержку закона о беглых рабах, Уэбстер превратился в фигуру одиозную. Достаточно прочесть "Икабод" Уиттьера (1850) или "Великий каменный лик" Готорна (1850), чтобы убедиться в том, насколько глубоко было чувство разочарования в некогда популярном сенаторе. Еще раньше, в 1848 г., Торо видел в нем лишь талантливого защитника Конституции, политика, не способного подняться "к вершинам мудрости". Теперь он назвал выступление Уэбстера ярчайшим образцом торжества политической целесообразности над моральным законом. Принцип конституционности, на который ссылался маститый сенатор, вызвал особое негодование писателя. Да и самый авторитет Конституции значительно пошатнулся в глазах Торо. "Нужны не политиканы, — сказал он в частности, — а честные люди, признающие более высокий закон, чем Конституция или решение большинства" (26; с. 367).
справедливости, пытавшиеся вызволить узника, сидят в тюрьме. Правительство и его слуги в судейских мантиях, преступившие требования морального закона, — вот настоящие преступники. Таков смысл гневных инвектив писателя.
Самим названием речи — "Рабство в Массачусетсе" ("Slavery in Massachusetts") — Торо давал понять, что он враг не только южного рабовладения, но и рабства духовного, широко распространенного на севере. Жители Новой Англии, говорил он, смирились с существованием института невольничества, считают его чем-то само собой разумеющимся и плохо понимают его бесчеловечность. Торо хотел довести до их сознания чудовищность этой системы, заставить посмотреть правде в Лицо. Для этой цели он использовал разнообразные ораторские приемы — от многократно повторяющихся риторических вопросов, насыщенных высокой патетикой, до глубоко ироничных выпадов против американских законодателей. "Если бы я предложил Конгрессу перемолоть человечество на колбасу, надо мной посмеялись бы, а если бы даже приняли это всерьез, то решили бы, что подобное предложение хуже любого другого, обсуждавшегося в Конгрессе за всю его историю. Но пусть мне скажут, что превратить человека в колбасу хуже, чем сделать из него раба (или принять закон беглых рабах), — и я обвиню сказавшего это в глупости и недоразвитости, так как оба эти предложения в равной мере чудовищны" (IV, р. 394). Так мог бы сказать великий сатирик Свифт.
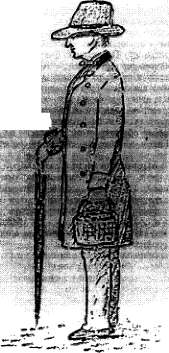
Рисунок Дэниэла Рихетсона. 1854.
"Гражданского неповиновения" сменяется в "Рабстве в Массачусетсе" гневным обличением и язвительными инвективами. Если раньше он пытался пробудить сознание янки, крича, как петух, то теперь жалит, как овод. Солдат, позволивших сделать себя послушными орудиями зла, он называет "дураками, которые гордятся красным мундиром", судей — "преступниками", а редакторов прорабовладельческих газет — "гнусными тиранами". По поводу бостонской "Геральд" Торо разразился особенно резкой тирадой: "Когда я, заворотив манжеты, брал эту газету в руки, то в каждом ее столбце слышал шум сточных вод. Мне казалось, будто я держу в руках бумагу, вынутую из помойной ямы, листок из устава игорного притона, трактира и борделя, вполне созвучного евангелию биржи" (26; с. 365). Он предложил простой и эффективный способ разделаться с этими растлителями общественной морали — не покупать газет и не читать их. В этом состоял новый "аспект его доктрины неповиновения.
В бурные 50-е годы, накануне Гражданской войны в США, Торо произнес речь, влияние которой на умы современников трудно переоценить. То было страстное обличение всех форм рабства. В лучших традициях трансценденталистов он призывал слушателей: будьте прежде всего людьми, а потом уже американцами, поступайте в соответствии со своими убеждениями, каковы бы ни были официальные догмы, оказывайте сопротивление государству, защищающему рабовладение.
Торо не ограничивал протест одними словами, как бы значительны они ни были. Он не участвовал в выборах, не платил подушного налога, оказывал неповиновение властям и более рискованным образом, принимая участие в деятельности так называемой "подземной железной дороги" — тайной аболиционистской организации, члены которой переправляли беглых рабов на север, в Канаду. В 1851 г. он прятал беглого раба Генри Уильямса, а в 1853 г. дал приют обессилевшему негру, который проделал долгий путь с Юга, выходил его и отправил дальше на Север. Он укрывал беглецов, а это было само по себе небезопасно, ибо грозило тюремным заключением или крупным денежным штрафом, покупал им билеты и сопровождал до следующей станции, передавая в руки других участников "подземной железной дороги". Этой нелегальной деятельностью он занимался больше, чем кто-либо в Конкорде. После восстания Джона Брауна Торо помог бежать сподвижнику последнего, Ф. Мерриаму, а немного позже принял участие в спасении аболициониста Ф. Сэнборна, которого власти собирались арестовать по делу Брауна. Так "одинокий мыслитель" с берегов Уолдена, подобно древнему Давиду, бесстрашно вступил в бой с великаном, имя которого — американское государство.
—1848 годов породили определенную раздвоенность в творчестве Торо: мы слышим попеременно то голос писателя, то — публициста. В самом деле, в 1849 г. появились одновременно "Неделя на Конкорде и Мерримаке" и эссе "Гражданское неповиновение", а в 1854 г.— "Уолден" и "Рабство в Массачусетсе". Обращает на себя внимание тот факт, что в книгах нет прямого осуждения рабства или требований его отмены, составляющих пафос публицистических выступлений писателя. Это дало повод некоторым исследователям сделать вывод, что антирабовладельческие речи Торо являются отходом от основной линии его творчества, чем-то второстепенным, чуть ли не случайным. Между тем, следует говорить не об отходе, а о раздвоенности в творчестве писателя после 1846 г. Он воздерживался от включения злободневного материала в свои книги, боясь, очевидно, нарушить их общий строй. В них он поднимал самые широкие проблемы — конфликт добра и зла, свободы и духовного рабства, природы и духа. Выступления же в Конкорде и Фрамингаме — недвусмысленно антирабовладельческие. Они исполнены гневного протеста против конкретного зла — южного рабовладения и его последствий для морального климата в стране. Торо-публи-цист произносил свои речи с ораторской трибуны; автор "Недели" и "Уолдена" обозревал действительность с такой высоты, с какой общечеловеческие пороки и несовершенство общественной системы казались ему гораздо заметнее, чем несправедливость южного рабовладения.
возможности насилия. Об этом можно судить уже по раннему эссе "Служение", в котором есть такие слова: "Подобно тому, как ветер вздымает мякину перед бурей, мы сейчас смиренно проповедуем мир и непротивление. Однако пусть мир не покроет ржавчиной наши мечи и не лишит нас способности вынуть их из ножен" (11; р. 252). В одном из диспутов в конце 30-х годов Торо и его брат Джон выступали против Олкотта с аргументами в пользу насилия при определенных обстоятельствах. В "Гражданском неповиновении" писатель рассуждал так: "Но положим даже, что прольется кровь. А разве из раненой совести не льется кровь? Из этой раны вытекает все мужество и бессмертие человека, истекая этой кровью, он умирает навеки. Вот эта кровь и льется сейчас" (26; с. 346). Допущение о возможности насилия в 1848 г. было чисто теоретическим. Но уже в 1851 г., после поимки в Бостоне беглого раба Томаса Симза и возвращения его хозяину, Торо записал в дневнике: "Я не верю, что близко то время, когда Север начнет из-за этого [освобождения рабов] войну с Югом. Это значило бы вписать слишком яркую страницу в историю нашей страны" (VIII, р. 174).
После бурных событий в Бостоне в 1854 г., связанных с поимкой Энтони Бернса, Торо сказал, что люди, пытавшиеся освободить его, заслуживают большей славы, чем герои "бостонского чаепития". Слова эти имеют глубокий смысл. Торо сравнил тех, кто активно противодействовал закону о беглых рабах и навлек на себя репрессии правительства, с патриотами, которые в декабре 1773 г. тайком проникли на суда английской Ост-Индской компании, стоявшие в бостонском порту, и сбросили весь груз чая в море. По мнению Торо, в 1854 г. в стране сложилась революционная ситуация, подобная той, которая в 1775 г. разрешилась Войной за независимость американских колоний.
По мере приближения страны к Гражданской войне идеи непротивления, распространившиеся в 30-е годы, теряли свою популярность. Былую приверженность им сохранял разве Адин Баллу, переждавший все бури Гражданской войны в тиши колонии в Новой Англии. Для него, как выразилась Юнис Шустер, "принципы были дороже реформ". Даже Гаррисон изменил, хотя и не окончательно, своей вере. Практически доктрина ненасилия изжила ce% к концу 50-х годов. Она возродилась в Америке лишь в 90-е годы, уже в виде "толстовства", придя туда из России. Ее новые приверженцы считали себя учениками русского религиозного реформатора, не задумываясь, вероятно, над тем, что эту идею уже проповедовали их соотечественники, Гаррисон и Баллу.
В конце 50-х годов, когда стала очевидной неизбежность вооруженного столкновения между сторонниками и противниками рабовладения, Торо пришел к оправданию насилия во имя достижения справедливости. Об этом говорят его выступления в защиту Джона Брауна, которые сыграли не последнюю роль в нравственном пробуждении нации накануне Гражданской войны. Браун был одним из трех американцев, которые произвели на Торо неизгладимое впечатление. Уже в 1857 г. он высказывал сочувствие делу Брауна, вступившего в схватку со сторонниками рабовладения в Канзасе. В 1859 г., через две недели после того, как восстание Брауна в Харперс-Ферри было жестоко подавлено, а сам он брошен в тюрьму, Торо созвал жителей Конкорда на митинг и произнес перед ними "Речь в защиту Джона Брауна" ("A Plea for Captain John Brown"). Это был откровенный вызов общественному мнению, ибо никто в те дни, даже аболиционисты, не решался открыто выступить против суда над мужественным борцом за освобождение рабов. Торо повторил свою речь 1 ноября в Бостоне и еще через два дня в Вустере. Он безуспешно пытался найти издателя, который согласился бы напечатать ее в виде брошюры. Только год спустя речь была включена в сборник Дж. Редпата "Эхо Харперс-Ферри". (Джеймс Редпат, один из сподвижников Брауна, опубликовал в 1860 г. книгу "Жизнь и деятельность капитана Джона Брауна", которую посвятил Торо, Эмерсону и Филлипсу). После полуторамесячного заключения Джон Браун был признан виновным в государственной измене и казнен. В тот же день, 2 декабря 1859 г., конкордские транс цендентал исты устроили траурный митинг, на котором выступили Эмерсон, Олкотт и Торо. Вторая речь Торо стала известна под названием "На смерть Джона Брауна". Через полгода прах Брауна был перевезен в Норт-Эльбу, штат Нью-Йорк, и захоронен рядом с могилами его близких. Торо получил приглашение выступить на церемонии, но был слишком болен, чтобы приехать. Его обращение "Последние дни Джона Брауна" было зачитано во время погребения.
"с искрой божественного в груди". Торо почувствовал в нем то же недоверие к политическим методам борьбы, какое было свойственно ему самому. Сила Брауна в том, полагал он, что отличает его от всех реформаторов современности — максимализме требований, самостоятельности действий, радикальности методов. Это позволило ему "освободить тысячи рабов на Севере и на Юге". "Те, кому отвратительно рабство, — продолжал он, — не должны ужасаться насильственной смерти рабовладельцев. Их жизнь гораздо отвратительнее смерти. Я не считаю порочным метод, если он ведет к освобождению раба в кратчайший срок. Я предпочитаю филантропию капитана Брауна филантропии тех, кто не убивает и не освобождает" (Г/, р. 433).
Острота и резкость речей Торо объясняются не только гуманизмом его позиции, но и особым отношением к личности Брауна, которого он уподобил Христу. Если в речи 1848 г. он как бы предсказал появление Брауна, то теперь он преклоняется перед этим бескомпромиссным борцом против рабства. Для него Джон Браун — "ангел света"27, герой, который вступил в борьбу с рабством, когда трудно было рассчитывать на победу.
Последние речи Торо являютя кульминационным пунктом в эволюции его антирабовладельческих взглядов, и в этом у исследователей творчества Торо расхождений нет. Однако по поводу характера его гражданского протеста мнения расходятся. Позицию Торо до 1854 г. иногда называют пассивной и "непротивленческой", не учитывая при этом того факта, что американская практика неповиновения властям предполагала активную борьбу против зла средствами, исключавшими насилие. "Неистовый" Гаррисон, хотя и проповедовал непротивление, не только не устранялся от практической деятельности, но был весьма активной фигурой в общественной жизни страны. Он бросался в схватку с идейными противниками, зачастую рискуя собственной жизнью. Вспомним также и других сторонников мирного сопротивления властям — священников-кальвинистов "новой волны" из Оберлинского колледжа в Огайо, которые нарушали закон о беглых рабах и шли за это в тюрьму, вызывая большой общественный резонанс. Вне всякого сомнения, их протест носил активный характер, хотя они и исключали возможность применения насилия.
1848 г. Он носил характер "практики одиночества", которая подготовила появление его учения о гражданском неповиновении в изменившихся исторических условиях. Определило эту эволюцию отношение Торо к проблеме рабства. За двадцать лет, предшествовавших Гражданской войне, его воззрения развивались от трансцендентализма созерцательного к трансцендентализму действенному. Вехой на этом пути был 1848 г., когда под влиянием политических событий Торо пришел к выводу, что одного нравственного совершенствования недостаточно для скорейшего достижения справедливости, что необходимо также прибегнуть к тактике активного сопротивления властям. В конце 50-х годов писатель оправдывал вооруженную борьбу с рабовладельцами. В этом был новый аспект его доктрины, отнюдь не перечеркивавший саму доктрину.
их цели и сотрудничал в их изданиях. Он всегда оставался на позициях индивидуализма, но вместе с тем пошел дальше многих аболиционистов в вопросе о применении насилия. Основную роль в этом сыграла борьба Джона Брауна, в котором Торо видел гражданина с высоким чувством ответственности.
Торо не дожил до того исторического момента, когда Конгресс США принял закон об освобождении рабов. Он умер в Конкорде 6 мая 1862 г. от туберкулеза легких в возрасте сорока четырех лет. Незадолго до смерти он приветствовал вооруженную борьбу Севера с Югом, в необходимости которой был убежден еще в 1851 г. Не будет преувеличением сказать, что своей жизнью и деятельностью писателя-публициста он помог вписать эту яркую страницу в историю своей страны.
Наследие Торо — живая ветвь на древе американской словесности. Оно связано множеством незримых нитей с творчеством лучших представителей американской литературы XX в.; его книгами вдохновляются борцы за гражданские права и бунтари против "общества потребления"; они находят отклик в сердцах тех, кому дороги высокие идеалы служения людям и социальной справедливости. Голос Торо в защиту природы был услышан многими людьми, осознавшими кризисный характер современной экологической ситуации. Прозорливость философа, дар художника, гражданственность писателя — все эти черты индивидуальности Торо делают его творчество достоянием не только истории, но и современности.
* в глубь вещей, в суть (лат.)
2 Thoreau, Henry David. The Writings in 20 vols. Boston & New York, 1906, v. VII, p. 350. В дальнейшем ссылки на это издание будут даваться в тексте (в скобках — номер тома и страницы).
4 Торо Т. Д. Жизнь без принципа. // Писатели США о литературе. В 2-х тт. М., т. 1. 1982, с. 107.
5 Цит. по: Salt Н. Life and Writings of Henry Thoreau. London, 1896, p. 154.
известному ученому Луису Агассису в сборе материалов для его обширного труда по естественной истории США. Однако Торо скептически относился к теории Агассиса о неизменности видов. Задолго до того, как в начале 1860 г. он прочел работу Дарвина "Происхождение видов", он пришел к идее эволюции (См. об этом: Richardson R., Jr. Henry David Thoreau. A Life of the Mind. Berkeley and Los Angeles, 1986, p. 367). He случайно, некоторые критики говорят о "нарастании материализма" в его творчестве (См.: Gayet, Claude. The Intellectual Development of Henry David Thoreau. Uppsala, 1981, p. 121).
8 Emerson R. W. Complete Works in 12 vols. Riverside Edition. Boston, 1883-1893, v. 1, p. 169.
9 Canby H. Henry David Thoreau. N. Y., 1958, p. 273.
10 Coleridge S. T. Biographia Literaria. N. Y., 1847, v. I, p. 300.
& New York, 1917, pp. 131-134.
12 Пушкин A. C. Собрание сочинений. В 10-ти тт. М., 1958, т. 1, с. 436.
13 Цит. по: Krutch J. Henry David Thoreau. N. Y., 1948, p. 26.
14 Emerson R. W. Op. cit., v. II, p. 196.
17 Стивенсон Р. Л. Генри Дэвид Торо: Неприкрашенные зарисовки людей и книг. // "Свобода угнетать...". Писатели США о литературе. Сост. М. П. Тугушева. М., 1986, с. 125-153.
18 The Living Thoughts of Henry Thoreau Presented by Theodore Dreiser. N. Y., 1939, p. 9.
22 The Correspondence of H. D. Thoreau. Ed. by S. Whicher. Boston, 1949, p. 496.
24 Emerson R. W. Op. cit., v. I., p. 107.
25 О соотношении дневника Торо и его книги пишет американская исследовательница Шарон Камерон {Cameron Sh. Writing Nature. Henry David Thoreau's Journal. Chicago & London. The Univ. of Chicago Press, 1989). Но она явно недооценивает значение "Недели", когда утверждает, что до последней редакции "Уолдена", т. е. до начала 1852 г. дневник был для Торо "основным произведением" (р. 160). Не склонен переоценивать значение дневника и Г. Големба (Golemba H. Thoreau's Wild Rhetoric. N. Y. & L., 1990, p. 137).
"Сделать прекрасным наш день" (Публицистика американского романтизма). Сост. и предисл. А. Н. Николюкина. М., 1990, с. 248.
Э. Ф. Осипова