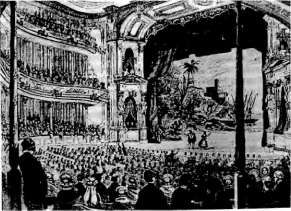
VI. ДРАМАТУРГИЯ
Развитие американской драматургии в первой половине девятнадцатого столетия проходило под воздействием множества различных по значению и характеру обстоятельств, как положительного, так и отрицательного свойства, но несомненно так или иначе отразивших поступь истории, которая вносила радикальные перемены во все области национального бытия. Наиважнейшим среди них, безусловно, было событие, которое подвело итог почти двухсотлетнему существованию американских колоний, — завоевание национальной независимости в ходе Американской революции 1775—1783 годов. Именно создание самостоятельного государства с необычайной остротой поставило вопрос о духовной независимости молодой нации, самым непосредственным образом связанный с судьбой литературы, призванной выражать национальное самосознание. Вопрос этот, как известно, стал средоточием жарких споров, развернувшихся в американской печати с первых же десятилетий XIX в.
Для американской драматургии эпоха революции имела особое значение. Войне за независимость она обязана легитимизацией театра. Правда, после завершения войны среди тех, кто желал дать истории обратный ход, оказалось немало его заклятых противников. Отчетливо звучали голоса, требовавшие закрытия театров по той причине, что они пользовались покровительством лоя-листов. Среди сторонников подобной точки зрения были и люди, еще более негативно настроенные в отношении театра, убежденные, что ему по существу не должно быть места в молодой республике, так как он более отвечает аристократическим вкусам "старой родины". Вместе с позорной зависимостью, которой был положен конец, должно исчезнуть все, что несовместимо в суровыми идеалами и скромными добродетелями новорожденной демократии. В лучшем случае посещение театра представлялось "пустой тратой времени и денег". Это выражение стало расхожим обвинением по адресу приверженцев театральных спектаклей. Показательно, что отвечая в одном из писем (28 августа 1822 г.) на вопрос корреспондентки, отчего он так часто бывает в театре, а в сущности оправдываясь, Джон Квинси Адаме находит необходимым начать как раз с утверждения финансовой целесообразности своих действий и отмести тем самым упрек в "пустых тратах". "Во-первых, поскольку я заплатил за два лица двумя своими акциями, — пишет он, возможно, не без лукавства, — это единственная прибыль, какую я получаю на свои деньги, и билеты ничего мне не стоят. Во-вторых, поскольку я всю жизнь питаю весьма экстравагантное пристрастие к этого рода развлечению и всегда предаюсь ему, ежели только соображения благоразумия, или приличий, или гордости, или же какого-либо долга, действительного или мнимого, не предписывают мне отказаться от них". Признаваясь далее в особом наслаждении фарсами, Адаме высказывает опасение, что будет "обруган за то в газетах"1.
В Америке, наследнице пуританского ригоризма, публичные поношения и оскорбления как по адресу театра, а, следовательно, и драмы, так и почитателей этого вида искусства, не были в начале XIX в. исключительным явлением. Напротив, именно в это время наблюдается усиление антагонизма по отношению к театру, несколько заглушённого в период революции. Так, Тимоти Дуайт, некогда входивший в состав кружка "Хартфордских остроумцев", автор сатирических поэм, отмеченных отнюдь не только поэтическими вольностями, занявший впоследствии пост президента Йейла, предстает в своем "Эссе о сцене" (1824) достойным продолжателем традиций Инкриса и Коттона Мэзеров, настаивавших на греховности театра. Словно со времен этих столпов ново-английского пуританства не минуло более столетия, Дуайт утверждает, что оправдывать драму может "лишь человек, чьим сердцем заправляет зло"2"Путешествия по Новой Англии и Нью-Йорку" (1823) развлечения, наиболее распространенные среди американцев, как, например, "нанесение визитов, танцы, музыка, беседы, прогулки, верховая езда", а также "стрельба в цель", шахматы и так далее, он заканчивает этот ряд отнюдь не безобидными словами: "и, к несчастью, карты и драматические представления"3. Порицая театр и драму в целом, Дуайт (горячо, однако, почитавший Шекспира) с особой яростью обрушивается на современную мелодраму, широко представленную на американской сцене изрядным числом переложений пьес А. Коцебу и других популярных европейских авторов, а также многочисленными сочинениями шедших по их стопам американских приверженцев "нового стиля". Ни те, ни другие не блистали, разумеется, особыми литературными достоинствами, но объяснение данному им Дуайтом определению — "передвижные бордели"4 — следует искать в той идеологической установке, которой Дуайт руководствовался. Да и не он один.
Ассоциация между театром и вертепом разврата — одна из наиболее устойчивых в знаковой системе, которая прочно утвердилась в сочинениях авторов, исходивших из религиозных док трин различных конфессий, в особенности же тех или иных направлений пуританства. Хотя встречались подобные настроения и среди южан, наиболее сильны были предрассудки в отношении театра и драмы в Новой Англии и Средних штатах, то есть именно там, где находились крупнейшие американские города и, стало быть, объективно существовали наиболее благоприятные условия для развития театра и драмы. В 1826 г., вторя почтенному Дуайту, критик "Бостон рекордер" в рецензии на один из спектаклей не нашел ничего лучшего, как заявить, что сцена прямо подготавливает мужчин к тому, чтобы отправиться в бордель (4; р. 230).
Нетерпимостью проникнута опубликованная десятилетием ранее брошюра Джона Эдвардса "Предупреждение грешникам, или Обращение ко всем актерам-исполнителям пьес, охотникам до пьес, законодателям, губернаторам, магистратам, духовенству, прихожанам, деистам и вообще всему свету" (1812). В духе самых грозных гонителей театра, каких знала Америка колониального периода, автор обрушивает на него исполненные мрачного пыла, хотя отнюдь не отличающиеся оригинальностью инвективы. Стремясь подвигнуть власти на богоугодное дело закрытия театров, которые Эдварде именует не иначе как "синагогой Сатаны" и "домом дьявола", где заправляет "дьявольское отродье", он пускает в ход патетику, усиливая тем самым эмоциональный нажим на читателя: "... мое сознание не может быть ясным пред лицом Бога, покуда я не предупредил вас — бегите грядущего гнева" (4; р. 170).
"Расследования относительно того, согласуются ли популярные развлечения с исповедованием христианства" (1825), некий Т. Чарльтон Генри, который грозит проклятием всем, кто даже только посещает спектакли, поскольку, по его убеждению, это несовместимо с обязанностями и призванием истинного христианина.
Естественно, что в таких условиях те, кто питал страсть к театру и желал посвятить себя драме, находились в положении, вынуждавшем их постоянно защищаться. В ответ на нескончаемые обвинения театра в порочности и приверженности злу, они, признавая его несовершенство в современном состоянии, напоминали, что театр и драматургия обладают огромными возможностями исправления общественных нравов, воспитания чувств возвышенных и благородных. Такую попытку предпринял, к примеру, один из выпускников Йейла, Джеймс Авраам Хиллхаус, избравший в университетские годы в качестве темы публичных дебатов общественную роль театра: "Плодотворны ли театры?". Поражение в дискуссии не охладило этого ревнителя общественного блага, и он рискнул выступить с лекцией, прямо озаглавленной "Защита театра". Подобное упорство Хиллхаус проявил затем и в собственном творчестве. На протяжении последующих 30 лет он написал около десяти пьес, четыре из которых опубликовал. Ни одно из его детищ, однако, не достигло подмостков, хотя антрепренеры, особенно в начале его деятельности, весьма обнадеживали молодого автора. Лучшим из его сочинений считается "Маска о Перси" (1817), которую Хиллхаус с благословения Ирвинга опубликовал в Лондоне, где он так же тщетно, как и в Америке, пытался добиться ее постановки. Получив высокую оценку в Лондоне, где критика с нескрываемой предвзятостью относилась к американским драматическим сочинениям, пьеса была восторженно принята и на родине, и притом не только Йейльским наставником Хиллхауса, Джоном Трамбуллом, но и У. К. Брайантом, посвятившим ей рецензию в "Норт америкен ревью".
Возражая хулителям театра, его защитники, как правило, делали упор на благотворности его нравственного и духовного воздействия на общество. Потребность в такого рода оправданиях не отпала даже в середине XIX в. Этими соображениями руководствовался, в частности, Уитмен, обращаясь с советом к читателям своей газеты в 1847 г.: "Все — люди всякого возраста и всякого состояния — могут с пользой для себя посетить хорошо организованное драматическое заведение и выйти оттуда лучше, чем они были, когда пришли" (2; р. 35).
Помимо откровенной враждебности по отношению к театру, существенно тормозившей становление американской драматургии, были и другие обстоятельства, влияние которых сказывалось столь же негативным образом. В среде наиболее состоятельных и образованных классов, в чьем покровительстве были кровно заинтересованы и драматургия, и театр, господствовали в это время англофильские настроения. Дары юной отечественной музы встречали с их стороны откровенное пренебрежение. Если учесть, что труппы, работавшие на американской сцене, были, особенно в начале века, по преимуществу английскими, не трудно понять, что этим в значительной степени определялась их эстетическая направленность, выражавшаяся в отборе репертуара, ориентации на вкусы традиционно знакомой публики, опоре на привычный культурный контекст.
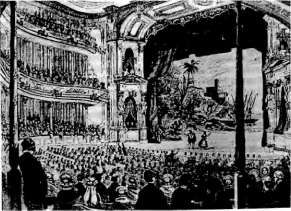
ТЕАТР "НИБЛОУ-ГАРДЕН" Нью-Йорк.
"Демократия в Америке", он с убийственной прямотой и точностью констатировал в нем удручающее положение американской литературы в собственном отечестве: "Сами граждане Соединенных Штатов, кажется, настолько уверены, что книги публикуются не для них, что прежде, чем оценить достоинства одного из своих авторов, они обычно дожидаются, пока их первыми не отведают англичане". Да и писатели, по его мнению, проявляют себя в своих сочинениях скорее как англичане, нежели американцы. "Из ' того небольшого числа людей, что заняты в Соединенных Штатах сочинением литературных произведений, большинство — англичане по содержанию, а более всего по форме. Они переносят в демократическую среду литературные идеи и нравы, распространенные сейчас в аристократической нации, которую они поставили себе за образец"5.
С наблюдениями Токвиля согласуются соображения, высказанные Дж. Ф. Купером, который писал по поводу книгоиздания в Америке: "Издатель по эту сторону Атлантики обладает тем преимуществом, что видит рецензии на книгу, которую он собирается издать, и, что еще важнее, знает... решение английских критиков до того, как сделает свой выбор. В девяти случаях из десяти популярность, а это все, чего он ищет, — достаточный показатель общего достоинства"6.
Хотя и Купер, и Токвиль ведут речь о литературе в целом, все ими сказанное можно & полным правом отнести к драматургии, если даже не в еще большей степени. С предельной откровенностью сказал об этом критик в одном из номеров "Нэшнел ред-жистер" за 1817 г., отметивший, что "драматические представления" среди прочего импортируются "из Лондона, как мы доставляем из Бирмингема, Шеффилда и Манчестера наши скобяные изделия и платье" (4; р. 228). Многих оскорбило высокомерие, с каким один из основателей "Эдинбургского обозрения", Сидни Смит, поднявшийся впоследствии до поста каноника собора св. Павла в Лондоне, вопрошал: "В четырех частях света кто читает американские книги? Или ходит на американские пьесы?" Его слова потому так и задели за живое, что ударили по больному месту. Как ни горько это было сознавать, попасть на американскую пьесу даже в Соединенных Штатах было и в самом деле отнюдь не легким делом. "Существующие предрассудки по отношению к американской прозе и поэзии, — пишет в своем исследовании "Зарождение развлечения", посвященном раннему этапу в развитии американской драмы, Уолтер Дж. Мезерв, — возрастали и усиливались вдвойне применительно к драме, в то время как господство англичан в актерском исполнении и организации театрального дела в Америке служило лишь подтверждением того наблюдения, что американская сцена, особенно в крупнейших городах, сохранялась за чужеземными пьесами и чужеземными актерами" (4; р. 221).
Отчасти это связано с политической ситуацией, сложившейся в начале века в результате победы Джефферсона на президентских выборах. Парадоксальным образом в образованных кругах американского общества она была расценена как предвестие торжества зла. Напуганные радикализмом новоизбранного главы нации, они отшатнулись от джефферсоновского демократизма, все явственнее склоняясь к консерватизму. Господствующие в этих слоях настроения выразил Фишер Эймс в сочинении, так и озаглавленном "Опасности американской свободы" (1805), где он без обиняков заявил, что "демократия не может удержаться"7.
Поскольку Америка, или Колумбия, как ее часто именовали в первые десятилетия XIX в., отождествлялась с демократией, проекция политических пристрастий в область культуры приводит к тому, что в этот период входят в моду антиамериканские настроения. Эти веяния лишь еще более подогревали англофильские пристрастия антрепренеров, либо возглавлявших английские труппы, либо приглашавших их на гастроли. Озабоченные прежде всего сборами, обеспечивающими успех антрепризы, они старательно угождали вкусам публики, устремлявшей благосклонные взоры за океан.
— он имел в виду и исполнителей, и пьесы — "по своему духу английский" (6; р. ПО). Речь, разумеется, не идет о Шекспире, чьи пьесы держали первенство по числу постановок в Америке, или о Шеридане, Голдсмите и других английских классиках, а о творениях английских сочинителей начала XIX в., к которым следует добавить также французских, немецких и других популярных европейских авторов, чьи имена давно забыты у них на родине. Их более чем скромные по своим достоинствам поделки вытесняли с американских подмостков американскую пьесу, не только закрывая доступ на сцену американским драматургам, но и образуя непреодолимую преграду на пути формирования национальной драматургической традиции.
вкусов, предсказывавшие расцвет американского гения, требовавшие поддержки отечественных талантов. В речи, произнесенной на церемонии окончания колледжа, юный Лонгфелло с молодым задором восклицал: "... пальмовые ветви будут завоеваны нашими отечественными писателями, теми, кто вскормлен и взращен вместе с нами в гражданской и религиозной свободе нашей родины"8.
Коснулись эти веяния и драматургии. В рецензии на комедию Анны Коры Моуатт Эдгар По, высоко оценивший ее пьесу, настаивал на необходимости самостоятельного развития драмы: "Мы должны отбросить все образцы. Надо оставить елизаветинский театр. Нам необходима наша собственная мысль — принципы драматического действия, почерпнутые не из "старых драматургов", а из источника Природы, которая никогда не может постареть"9.
За три десятилетия до Эдгара По анонимный критик сетовал в "Нэшнел реджистер" (27 июля 1816 г.) по поводу того, что "об американской драме так мало заботятся". По его убеждению, благодаря "свободе наших политических институтов, разнообразию и различию характеров", а также "неограниченной свободе слова, которая способствует развитию всех особенностей и странностей нашей природы", Соединенные Штаты, как никакая другая страна, дают простор для развития драматического таланта. "Однако, — продолжает он, — предрассудки, которые вожделеют всего европейского, будут склонны тормозить усилия американского гения; и в то время, как это проливает свет на патриотизм наших граждан, это в немалой степени способствует приостановке роста нашей литературы". Чтобы покончить с трудностями, "тормозящими прогресс американской драмы", считает критик, "должна быть уничтожена эта рабская зависимость от иноземных литературных поступлений, и сцена, ныне закрытая, должна быть совершенно доступна для драматических творений американской музы" (4; р. 226).
Поборнику отечественного гения вторил автор (тоже анонимный) развернутого эссе "Американская драма", опубликованного в июньском номере 1827 г. "Америкен куотерли ревью". "Первое необходимое условие создания Национальной Драмы — национальное поощрение. Мы не имеем в виду субсидий или вознаграждений — но щедрые похвалы и награды одержавшим успех и щедрую снисходительность к провалам. Второе — немного больше вкуса или щедрости в антрепренерах наших театров; и третье-— наличие квалифицированных исполнителей, собранных в достаточно, сильные труппы, чтобы поддержать новую пьесу, и таланта для воплощения оригинального характера, достаточного для того, чтобы не прибегать к заезженным образцам, которые передавались из поколения в поколение и, подобно всем копиям, теряли что-то из оригинала в руках каждого последующего имитатора" (4; р. 292).
прошлого столетия. Мрачно расценивая сложившуюся ситуацию, он возлагал большую ответственность на критику, отнюдь не благоволившую к местным талантам. "Драматический гений, как и гений всякого иного рода, — по убеждению Баркера, — определенно присущ нашей почве и нуждается здесь лишь в благотворном и добром дуновении благорасположения, которое укрепило бы его нежный склад, повелев ему скорее подняться из колыбели и достичь цветущей зрелости. Но, увы! слабые создания, бедняжки! в какой атмосфере определено вам судьбой сделать свой первый вдох! Едва вездесущая пресса прекратила стонать по поводу вашего появления, как вы уже задыхаетесь в затхлой атмосфере полной апатии или сметены ураганом безжалостного неразборчивого осуждения". В подтверждение своей мысли о необходимости поддержки отечественных дарований Баркер ссылается на пример других стран, где во все времена "даже самый крепкий отпрыск гения испытывал необходимость в помощи и получал ее из благосклонных рук покровителя, поддерживавшего и направлявшего его первые неверные шаги; ничего, поэтому, удивительного, что здесь, где все искусства пребывают лишь во младенчестве, потуги юной драматической поэзии, не пользующейся ни помощью, ни поддержкой, должны потерпеть неудачу, и ее неразумные усилия должны навсегда прекратиться с этой неудачею; что удрученная полнейшим невниманием или обруганная с незаслуженной суровостью, обескураженная насмешками, уморенная завистью и прибитая к земле злобою, несчастная сирота, робкая и павшая духом, должна вскоре окончить свое недужное существование"10.
Призывы и пророчества подобного рода, которым, начиная со второго десятилетия XIX в., не было числа, не возымели, однако, на развитие американской драматургии заметного действия и не только в силу того, что она так и не дождалась столь необходимого ей покровительства. Гипотетически существовала возможность рождения американской драмы как эстетического феномена именно в этот период. Она связана с творчеством великих писателей-романтиков, вступивших на литературную стезю в 20—30-е годы XIX в. Но как раз те, кто мог осуществить эту возможность, находились во власти предубеждений, считая драму низшим родом литературы. Подобное отношение к театру не имеет аналогов в литературе европейского романтизма. В Англии, где роль драмы в системе национального искусства традиционно необычайно велика, Байрон и Шелли пытались облечь в драматическую форму свои поэтические творения. Во Франции именно драма, благодаря творчеству Гюго прежде всего, стала глашатаем романтизма и сыграла решающую роль в его утверждении как ведущего метода. Что касается Германии, романтическая драма, приняв эстафету от периода "бури и натиска", дала миру произведения, которые, как убедительно показали современные исследования, прежде всего А. В. Карельского, принадлежат к числу вершинных достижений немецкой литературной традиции в рамках этого художественного метода.
Скепсис американских романтиков в отношении драмы есть, стало быть, аномалия. Тем не менее, именно она определила судьбу американской драматургии в этот исторический момент. Чтобы наглядно представить, какие формы принимало это печальное заблуждение, достаточно обратиться к суждениям литераторов о Шекспире, перед гением которого они все без исключения преклонялись. Так, юный Эмерсон писал в своем дневнике в 1821 г., что хотя Шекспир "изваял" своим творчеством "исполина", "его дьявольские черты отравляют наше восхищение гением, его сотворившим"11. Зная культурную среду, в которой проходило духовное формирование Эмерсона, мы не очень ошибемся, предположив, что на его отношении к Шекспиру ощутимо сказалось неприятие театра, в котором пуританину неизменно мерещились "дьявольские черты".
Столь многим обязанный Шекспиру Мелвилл считал, что "великий гений" профанировал свой дар, отдав предпочтение драматической форме. Он был убежден, что "обстоятельства принудили" Шекспира "искать шумной популярности, которую создают их авторам грубоватый фарс или трагедия с кровопролитием..."12 и совершенстве, необходимо прежде всего очистить ее от театральной "скверны".
Что до Эдгара По, его характеристика драмы была просто убийственной. Трудно не согласиться, особенно полтора столетия спустя, с его злыми насмешками над шаблонными приемами, культивировавшимися в то время поставщиками массовой продукции как в драме, так и на сценических подмостках ("драматург упорно заставляет героя произносить на сцене монолог, какого не произносит ни одно человеческое существо в обычной жизни, — извергать-в публику трансцендентализм и декламацию, какой не слыхал ни от кого, кроме кандидата в Конгресс от партии Пиан-китанк, оглушая зал и подвергая опасности жизнь музыкантов в оркестре, хотя считается, что наперсник, обнимающий его за плечи в это самое время, не слышит ни слова"). Издержки изжившего себя стиля схвачены Эдгаром По убийственно точно и обоснованно., подвергнуты осмеянию, необходимому для очищения этой сферы искусства от косности и рутины. Однако невозможно признать справедливыми его выпады против драмы вообще, в которой, по его убеждению, по сравнению с другими искусствами "меньше оригинальности, меньше независимости, меньше мысли, меньше доверия к общим принципам, меньше стараний идти в ногу со временем, больше косности, больше консерватизма, больше окостеневших условностей. Этот дух подражания, развившийся из следования старым и потому неуклюжим образцам, не то чтобы вызвал "упадок" драмы, но разрушил ее, не давая ей воспарить. В то время как все другие искусства поспевают за мыслью и прогрессом нашего века, она одна стоит на месте...". После перечисления всех этих грехов, присущих якобы одной драме, в которой он не находит ни единого достоинства, предложенный По вывод кажется неизбежным: "Драма нынче не пользуется поддержкой по той простой причине, что не заслуживает ее", — но неизбежным в пределах его заметки, а не в живой действительности развивающейся литературы (12; с. 166, 165—166). Категоричность его неприятия драмы понятна лишь в свете того бесповоротного разделения драмы и художественного совершенства, которое существовало в сознании американских романтиков.
Этим, надо полагать, а не только естественной склонностью к той или иной области литературного творчества, объясняется, по-видимому, тот факт, что ни один из ведущих американских романтиков ни разу не попытался ступить на стезю драматического писателя. Исключение составляют лишь Лонгфелло, чьи драматургические опыты оказались полной неудачей, и Вашингтон Ирвинг, прикоснувшийся к драме и в качестве театрального критика, и в качестве автора. Показательно, что Ирвинг при этом строжайшим образом запретил даже упоминать свое имя в какой бы то ни было связи с участием в написании пьес, созданных в соавторстве с Джоном Хауардом Пейном, отчего теперь совершенно невозможно установить долю и характер его вклада. Кроме всего прочего, из этого можно заключить, что само сочинение пьес считалось не таким занятием, которым следует гордиться. С обезоруживающей простотой сказал об этом один из тех, кому удалось добиться известных успехов на драматургическом поприще. Отвечая журналисту, попросившему у него экземпляр его пьес, Д. П. Браун утверждал, что его пьесы "были скорее написаны в качестве отдохновения от забот и трудов изнурительной профессии, нежели с видами на их представление на сцене. И если я могу говорить откровенно, я должен сказать, что они снискали более славы благодаря своему автору, нежели автору когда-либо удастся снискать (...) благодаря им. ... Хотя я получил большое удовольствие, сочиняя такие вещи, меня нисколько не интересует их судьба. Я адвокат, а не драматург"13.
Ввиду добровольного самоустранения литературных светил романтизма сочинительство пьес оказалось в руках людей если не абсолютно случайных и бесталанных, все же лишенных той мощи дарования, той дерзновенности видения, которые единственно способны преобразовать ремесло в искусство. Немногим из них удавалось хотя бы на время вьщержать в борьбе с актерами и продюсерами, которые "в равной мере смотрели на драматурга и на пьесу как препятствие, которое им необходимо преодолеть, чтобы добиться успеха в качестве актеров и продюсеров"14. Пути театра и драмы в Америке, едва начавшись, расходились все дальше и дальше. Первый все больше утверждал себя как развлечение, рассчитывая прежде всего на такие приманки для привлечения зрителей, как зрелищность, сенсационность, громкие имена и т. п., за что вскоре и поплатился развалом традиционных трупп с относительно постоянным составом и довольно обширным репертуаром, вытесненных сформировавшейся в этот период системой "звезд". Вторая же оказалась вынужденной на целое столетие подчиниться диктату отторгнутого от литературы театра, пожертвовав искусством ради коммерческого успеха, и на целое столетие погрузиться в небытие. Условием пробуждения драмы от тяжкого летаргического сна стало ее самоосуществление как художественного феномена. В силу названных выше причин решение этой задачи в рассматриваемый период оказалось американской драматургии не под силу.
так или иначе изменить положение драмы заслуживает внимания.
— 1858). Он происходил из влиятельной семьи, принимающей самое активное участие в политической жизни. Отец его, человек язвительно остроумный и горячий патриот, служил в армии во время революции, впоследствии прославился как оратор и занимал пост мэра Филадельфии. Унаследовав политические пристрастия отца, Баркер с началом войны 1812 г. с Англией вступил в армию, где отличился^ ходе военных действий, затем занялся политической деятельностью и при поддержке демократической партии был избран мэром Филадельфии, активно участвовал в президентской кампании Эндрю Джексона, после чего занимал с конца 20-х годов ряд ответственных постов, в том числе в казначействе США.
Получив хорошее образование, Баркер, как приличествует юному джентльмену, отдает дань увлечению литературой, сочиняет стихи, речи, пьесы. Его первым опытом в драматическом роде оказалась оставшаяся незаконченной одноактная пьеса "Испанский корсар" (1804), сюжет которой был навеян Сервантесом. За ней последовала маска "Америка" (1805). Не удостоившаяся ни постановки, ни публикации, она представляла собой, по характеристике автора, "поэтический диалог", который должны были произносить "Гений Америки, Наука, Свобода и сопровождающие их духи, наподобие маски в "Буре" (4; р. 177). Как признавался Баркер, она предназначалась в качестве завершения к "драме, которую (он) задумал о приключениях Смита в Виргинии, в стародавние времена" (10; р. 567). За "Америкой" последовала трагедия "Аттила", сюжет которой он почерпнул у Гиббона, оставшаяся незаконченной, поскольку Баркеру стало известно, что эту тему разрабатывает другой автор, Дж. О. Стоун.
Свою следующую пьесу "Слезы и улыбки" (Tears and Smiles, 1807) он написал по предложению филадельфийского антрепренера и, учтя пожелания, высказанные известным актером Джозефом Джефферсоном, включил в нее образ янки. Литературной предшественницей пьесы Баркера была комедия Ройяла Тайлера "Контраст". Пьеса интересна главным образом не запутанным сюжетом, развязывание узлов которого происходит с помощью своевременного узнавания (распространенный прием в драматургии и литературе того времени, в использовании которого Баркер не проявляет особого искусства), а попыткой обрисовки нравов общества и представленных в нем типов, наделенных характерной речевой манерой, от честных и открытых американцев до любящего пустить пыль в глаза пройдохи, занятого поисками богатой невесты; от щедрого на острое словцо, сыплющего деревенской мудростью его слуги-янки до блистающего глупостью модника с его преклонением перед всем европейским и незадачливого француза, который не чувствует нелепости своих представлений и комизма своего поведения в американском окружении.
Первоначально Баркер намеревался дать пьесе заглавие "Назови это сам", однако, узнав, что пьеса с таким названием уже идет в Англии, придумал новое — "Слезы и улыбки" — и тогда узнал, что и оно использовано кем-то из современников-англичан для комедии с почти таким же набором персонажей. Впоследствии Баркер жаловался Данлэпу на преследовавшие его злосчастные совпадения. Об "Аттиле" уже говорилось. Сходная участь постигла его замысел "Дамон и Пифий", когда облюбованный им сюжет не замедлил объявиться на лондонской сцене. То же случилось и с другими героями, о которых он вознамерился написать, вплоть до Эпаминонда, "характера столь философического склада, что даже французы не сочли его пригодным для сцены" (10; р. 568).
работы в ту эпоху драматурга средней руки, не столько устремленного к постижению в драматической форме тайн бытия или выражению собственных представлений о мире, сколько озабоченного тем, как бы, опередив соперников, подыскать подходящую фигуру прославленного героя, лучше всего в какой-нибудь забытой пьесе, чтобы, перелицевав ее на новый лад, иметь возможность быстро предложить ее театру. По той же причине столь часты в этот период обработки пьес, как старых, так и современных авторов, а также инсценировки романов, особенно популярных.
Следующая пьеса Баркера, которой он придал политическую актуальность и дал недвусмысленное название — "Эмбарго, или Что нового?", отражает его проджефферсоновские настроения. Рукопись не сохранилась, так что о пьесе известно лишь, что это была комедия, выступавшая в защиту политических акций Джеф-ферсона. Это было небезопасным делом, поскольку они не встречали поддержки у той партии, к которой принадлежал Баркер.
первоначально. Его "Индейской принцессе, или La Belle Sauvage"* {The Indian Princess, or La Belle Sauvage, 1808) суждено было стать первой из числа "индейских пьес", пользовавшихся большой популярностью у американского зрителя вплоть до конца XIX в., но особенно в первой его половине.
"Индейскую принцессу" (ирония "совпадений" преследовала Баркера и в этом случае — через несколько лет на лондонской сцене появилась одноименная пьеса, которую в целях рекламы на этот раз приписывали Баркеру, от чего он решительно открещивался), он хорошо проштудировал "Общую историю Виргинии" Джона Смита. Тем не менее, он не считал себя связанным историческими обстоятельствами и, выделив в качестве основы пьесы эпизод с Покахонтас, обошелся с ним достаточно свободно. Разрабатывая сюжет, Баркер сделал его созвучным современным, настроениям, вложив в уста героев пылкие речи о свободе, открытой перед теми, кто дерзнул, пренебрегая тяготами, отправиться в Новый Свет. Так, уже в первом монологе бравого капитана Смита появляется красноречивое противопоставление его сподвижников людям, которые "гниют в затхлой Европе". Далее он призывает всех быть начеку: "Не позволяйте руке мятежной // Наш твердый договор ославить. Союз — // Вот наша сила. Запомните навек", — и его слова не могли отрадным эхом не отозваться в американских сердцах. Появление белых производит разное впечатление на коренных жителей Америки: одни, как брат Покахонтас, принц Нантакуас, видят в них богов, другие, как претендент на руку и сердце принцессы, наследник главы враждебного Повхатану племени, Майами, — грабителей, которые явились из своих "пустынных охотничьих угодий по ту сторону света", "на чудовищных каноэ, через большую воду", чтобы погубить индейцев и лишить их наследственного достояния. Одни призывают к дружбе с пришельцами, другие — к мщению и смерти. Несмотря на заступничество Покахонтас и Нантакуаса, Пов-хатан под влиянием главного жреца и Майами принимает решение казнить Смита, который не дрогнув встречает эту весть:
Ведите к плахе. Дух не дрогнет мой.
На дыбу! Белый воин, вы увидите,
Краснокожий, когда поет он песню смерти.
Когда топор уже занесен над головой Смита, его спасает Покахонтас, чей образ обрисован с трогательной простотой и нежностью. Сцены с ее возлюбленным Рольфом исполнены невинности и искренности. Но она наделена также и твердостью и, испытав подлинное чувство, решительно отказывается стать женой Майами. Любовная драма становится основной пружиной действия, поскольку Майами отнюдь не склонен отказаться от возлюбленной и в союзе с главным жрецом убеждает Повхатана заманить белых на пир, а потом расправиться с ними. Но в последний миг ненароком подслушавшая их коварный план Покахонтас появляется на пиру — индейцы уже окружили белых гостей и занесли над ними оружие, готовясь пустить его в ход, — и предупреждает жестокую расправу. Нетрудно заметить, что индейцы рассматриваются исключительно с позиций белых поселенцев: те, кто, подобно Майами, отстаивает свою свободу и владения от их посягательств, неизменно предстают как коварные, жестокие и злые, те же, кто благорасположен к пришельцам, как Покахонтас и Нантакуас, — благородны и исполнены высоких устремлений. Пьеса завершается соединением сердец и рук возлюбленных (по давней традиции линия героев имеет параллелью комическую любовную интригу слуг, а также приближенных Смита), монологом Смита, предсказывающего грядущий расцвет Америки, которая оставит позади старую Европу, и куплетами, прославляющими Свободу, Доблесть и Любовь.
театрах страны. Тогдашние критики отозвались на "Индейскую принцессу" весьма благосклонно. Один из них считал, что она "хорошо сработана, исполнена нежности и превосходит по композиции многих современных европейцев, стряпающих пьесы", хотя и отмечал в числе недостатков "нелепости мелодрамы". Другой, соглашаясь с ним в оценке драматической композиции, не без основания называл ее "одной из самых строгих и изящных пьес, когда-либо написанных в Соединенных Штатах" (4; р. 181).
Два следующих произведения Баркера вновь были переделками. Одно, "Путешественники, или Очарование музыки", перекраивало на американский лад пьесу Эндрю Черри. По распространенному обычаю той поры, автор скрыл свое имя, подписавшись "житель Филадельфии". Наиболее примечательной чертой пьесы было, по-видимому то, что действие перемещалось в разные страны, включая Китай, Турцию и Италию, завершаясь на палубе американского фрегата, что позволяло прибегать к всевозможным сценическим эффектам, до которых была весьма охоча тогдашняя американская публика. Вторая пьеса представляла более серьезное направление в творчестве Баркера — он сделал инсценировку поэмы В. Скотта "Мармион" (1812), использовав при ее написании также и хронику Холиншеда. Успеху пьесы содействовала напряженность отношений между Соединенными Штатами и Англией, приведшая в 1812 г. к войне. В этой обстановке "Мармион" звучал более чем злободневно. Чтобы обеспечить успех своего детища, автор прибегнул также к маленькой хитрости и, сыграв на неприязни американцев к отечественным пьесам, укрылся за псевдонимом "Томас Мортон, Эскв.". Невозможно сказать, было ли случайным совпадением или результатом сознательного выбора то, что он избрал в качестве псевдонима имя не только популярного английского драматурга, но и человека, изгнанного и депортированного в Англию ревностными пуританами, любившего застолье, веселую беседу и представления с декламацией, песнями и танца*£И у майского дерева. Так или иначе, "Мармион" на долгие годы удержался в репертуаре различных театров, несмотря на существование других сценических версий поэмы. Баркер дважды издавал пьесу, в 1816 и 1826 г., сопроводив ее предисловием, в котором указывал на несомненную близость между отношением Англии к Шотландии в XVI в. и ее современной политикой в отношении молодой заокеанской республики. Важной темой, отчетливо прозвучавшей в предисловии, был, как пишет У. Мезерв, "страстный призыв к духовной независимости Америки", — Баркер побуждал соотечественников "обрести и поддерживать твердое, сдержанное и последовательное сознание ценности и достоинства нашей родины" (4; р. 182).
Созданию последней пьесы Баркера, "Суеверие", предшествовали еще два довольно различных по характеру драматических сочинения. Основанная на реальных событиях мелодрама "Спасение канонира, или Три года в проливе Нутка" (1817) рассказывала историю пленения индейцами тихоокеанского племени некоего Джона Джуитта и его товарища, единственных, кто остался в живых из команды корабля — остальные были убиты в схватке, — их спасения индейцами другого племени и окончательного избавления прибывшим американским бригом. В программе спектакля по этой несохранившейся пьесе указывалось на исполнение индейских танцев и ритуалов, несомненно придававших постановке красочность и притягательность в глазах зрителя, равно как и то, что герой необыкновенных приключений сам исполнял на сцене собственную роль.
"Как испытать возлюбленного", изготовленную по распространенному рецепту: основную идею он почерпнул из романа Пиго-Лебрюна "Испанское безумие", весьма вольно воспользовавшись его материалом. По собственному признанию Баркера, эта комедия, увидевшая свет рампы лишь в 1836 г., доставляла ему удовлетворение более всех других его драматических сочинений.
"Суеверию". Баркер охарактеризовал пьесу "Суеверие, или Отец-фанатик" (Superstition, or The Fanatic Father, пост. 1824, опубл. 1836) как "домашнюю трагедию". Обратившись к событиям национальной истории, он выступил в литературном плане первооткрывателем, опередив Купера и Готорна в разработке исторической темы. В прошлом родной страны он выделяет "темный период", когда дух нетерпимости, владевший пуританами Новой Англии, выливался в гонения и расправы, жертвами которых становились люди, не разделявшие их учения или даже просто неординарностью своего поведения навлекавшие на себя подозрения в тайных сношениях с дьяволом. Этим губительным духом одержим центральный персонаж пьесы, священник Рейвенсуорт. Суровый хранитель пуританских заветов, он видит жизненное предназначение в том, чтобы разоблачать "тьмы силы (что) орудуют средь нас". Однако он не замечает, какие разрушительные перемены производит фанатизм в его собственной душе, не отдает себе отчета, что в покровы праведного гнева все более облекается его личная неприязнь, а оскорбленное религиозное чувство становится средством сведения личных счетов с людьми, которые ни делом, ни помыслом не причинили ему никакого зла. Особую, ни с чем не сообразную ненависть вызывает у Рейвенсуорта Изабелла, в которой он видит источник всех бед, постигших поселение колонистов: утраты религиозного рвения, духовной деградации, распространения гордыни и стремления к роскоши. Не слушая резонов и увещеваний друга, пытающегося доводами разума развеять его подозрения, он дает толчок слухам о том, что Изабелла занимается чародейством и водится с нечистой силой.
Но и этого ему кажется мало. Даже в ее сыне, Чарльзе, пылком и чистом юноше, он не находит ни единого "проблеска добродетели", способного искупить безмерную "черноту его грехов".
Баркеру удается довольно искусно свести воедино несколько линий действия. Прибывший в поселение с неким поручением от короля сэр Реджинальд не спешит обнародовать его тайный смысл, а его племянник, вертопрах Джордж, решает скрасить свое пребывание в "пустыне", приволокнувшись (по лондонской привычке) за дочерью Рейвенсуорта, Мэри, и неожиданно обнаружив соперника в своем дяде. От не в меру пылких объятий Джорджа Мэри спасает Чарльз, возвращавшийся после блужданий в лесу, где он встретил незнакомца, с которым его вскоре соединила взаимная симпатия. Он не догадывается — и так и уйдет из жизни, не узнав, что перед ним его дед, один из тех, кто во время Английской революции подписал смертный приговор королю, цареубийца, обреченный своим деянием на вечное одиночество. Во время дуэли Чарльз ранит обидчика Мэри, а немного погодя Рейвенсуорт обвиняет его в покушении на честь дочери и убийстве, потрясая брошенной на месте дуэли шпагой и окровавленным платком. Над поселением между тем нависает угроза нападения индейцев, и только неожиданное появление таинственного незнакомца, ставшего во главе охваченных замешательством и страхом поселян, предотвращает неминуемую трагедию (сюжет "Седого заступника" Готорна). Несмотря на отвагу, проявленную Чарльзом в столкновении с индейцами, Рейвенсуорт добивается вызова Изабеллы и Чарльза в суд, где ему выносят смертный приговор. Появление Незнакомца и сэра Реджинальда, проясняющих, наконец, окружающую Изабеллу тайну, не может уже предотвратить трагедии. Изабелла, дочь Незнакомца и тайная супруга возвращенного на престол короля, пославшего гонцов за своей женой и сыном, умирает на руках отца при виде тела казненного сына. Над ним расстается с жизнью и верная Мэри — смерть, которую сеял Рейвенсуорт, потребовала жертвы и от него самого. Финал трагедии,, в котором одна смерть следует за другой, несколько перегружен, напоминая нагромождением ужасов постелизаветин-скую драму. Баркер и сам чувствовал это и в заметке, предваряющей текст пьесы, специально оговаривал это обстоятельство: "Если кто-то будет возражать против катастрофы как чего-то невероятного, лучшим ответом является то, что такое событие запечатлено в подлинной истории этого темного периода"15.
Образ фанатически одержимого священника, человека сильных страстей и непреклонной воли — не только несомненная удача Баркера, но и заметное достижение американской драматургии того периода. Мрачная сила Рейвенсуорта, обуревающие его страсти становятся внутренней пружиной действия, приобретающего фаталистическую окраску, и влекут его к кровавой развязке. Достаточно выдержан и стиль трагедии, в которой автор удачно находит место юмору и игривости — они служат контрастом общей удручающе печальной тональности, разряжая чрезмерное напряжение эмоций.
"Сеуверием" Баркер простился с драматургией. В последующие тридцать с лишним лет жизни, отмеченные для него большой политической и государственной активностью, он отдавал дань лишь поэзии. Но след в литературе он оставил именно своими драматическими произведениями. Трудно предположить, чтобы даже лучшее из них, "Суеверие", могло когда-нибудь широко войти в репертуар, но отдельные постановки этой пьесы, вплоть до середины 20-х годов нашего века, т. е. столетие спустя после написания, показали ее способность выдержать критический взгляд требовательного современного зрителя.
Как драматург Баркер сознательно поставил в своем творчестве во главу угла интересы американской литературы как литературы национальной. Мысль о связи драмы с национальной жизнью стала по существу главной темой и его статей как театрального критика. Патриотический настрой, которым проникнуты его пьесы, был не доктринерского типа и не предполагал унылых назиданий, допуская игру воображения. Сам он, думается, трезво оценивал как свои возможности, так и достижения, в чем можно убедиться, прочитав его предисловие к "Индейской принцессе". Призывая критиков благосклонно отнестись к его детищу, Баркер пишет, что ему не нужны "ни колыбельная похвал, ни покровительственное сюсюканье, ни деревянная лошадка чести. Это непривередливый, доморощенный и, смею добавить, независимый сорванец, который рад какому-нибудь драже и своим маленьким сердечком презирает золоченый пряник. Но не давай ему, о, добрый критик, березовой каши за то, что его младенчески неопытный язык способен лишь лепетать, но не заговорить языком Шекспира, и не приходи в сильную ярость от того, что он вынужден ползать, прежде чем сможет ходить" (10; р. 576). Эту характеристику можно по справедливости отнести и ко всей американской драме того времени.
Подобно Баркеру, многие из его соотечественников, обращавшихся к драме, соединяли это занятие с другими видами деятельности. Джордж Вашингтон Парк Кастис (George Washington Parke Custis, 1781—1857) писал прозу, стихи, пьесы, но публиковался мало. Главным делом его жизни было ведение хозяйства в собственном большом поместье с почти тремя сотнями рабов, хотя он и называл рабство "страшным проклятием" (4; р. 250). Как и Баркер, Кастис добровольцем вступил в армию во время войны с Англией 1812 г. Писать пьесы Кастис начал лишь на склоне лет.
"Индейское пророчество", была закончена в 1827 г. Трудно сказать, что именно побудило его отдать предпочтение драматической форме, однако, с большой долей вероятности можно предположить, чем был подсказан выбор сюжета. В пьесе представлен эпизод из раннего периода жизни Вашингтона, автор же приходился сыном пасынку Вашингтона. Отец его рано умер, и Кастис воспитывался в доме первого президента США, где должен был слышать немало историй из его жизни. Вместе с его воспоминаниями о Вашингтоне, которые он начал публиковать в газетах в 1826 г., они составили книгу, выпущенную посмертно дочерью Кастиса.
"Индейском пророчестве" отведено посещению в 1770 г., за пять лет до начала революции, Вашингтона, тогда полковника английской армии, вождем одного из индейских племен Виргинии, который сообщил ему, что за несколько лет до того он возглавлял отряды индейцев в военных действиях против англичан, и, хотя лучшие индейские воины нацеливали свое оружие именно на Вашингтона, находившегося в гуще сражения, все их усилия оказались напрасны: им не удалось даже ранить его коня, а сам он, словно оберегаемый высшей силой, вышел из сражения целым и невредимым. Индейский вождь предсказывал Вашингтону, что он не падет на поле брани и станет большим вождем, основателем могучей империи. Независимо от того, насколько достоверны были изложенные в пьесе факты, она была обращена к патриотическим чувствам американцев, и ее премьера была приурочена к Дню Независимости.
— "Железная дорога" (1830), где в финале на сцене появлялся дышащий паром паровоз, отъезжавший под звуки собственного гудка, "Норт-Поинт, или Защищенная Балтимора" (1833) и "Восьмое января" (1834). Все они включали зрелищно эффектные моменты. Еще две пьесы Кастис написал на индейскую тему: "Покахонтас, или Виргинские, поселенцы" (1830) и "Вождь поуни". О последней ничего определенного неизвестно, кроме названия, а первая возвращает к уже известному сюжету, почерпнутому у Джона Смита. В его обработке у Кастиса появляются новые моменты. Композиционно его пьеса удачнее, чем баркеровская: он относит самый значительный эпизод — спасение Смита благодаря заступничеству Покахонтас — в последний акт, к моменту кульминации действия, тогда как Баркер, поместив его в середине пьесы, был вынужден фактически продублировать его в финале, иначе действие вообще не имело бы развития. Главное было, однако, в трансформации образа Покахонтас, отражающей движение времени. Кастиса, очевидно, уже не устраивала трактовка, предложенная его предшественником. Если у Баркера, близкого к эпохе Просвещения и в какой-то мере разделявшего идею "благородного дикаря", Покахонтас движима добрыми и благородными побуждениями души, пребывающей в естественной чистоте "варварства", т. е. Природы, без малого четверть века спустя Кастис находит необходимым предложить иные мотивы. Чтобы обосновать поведение героини, он вводит отсутствующую у Смита дополнительную фигуру, чье появление имеет принципиальное значение. Это англичанин Барклай, якобы уцелевший от некоей предыдущей экспедиции, все остальные участники которой погибли от рук индейцев. Подчиняясь законам жизни, он женился на индеанке и принял многие индейские обычаи, сохранив, однако, в душе веру предков и любовь к далекой родине. К своей вере он приобщил и Покахонтас, так что, образно говоря, она "приняла" Смита еще до его реального появления в Америке. Когда же над ним нависла угроза казни, она спасает его, движимая христианским милосердием и любовью к ближнему. Подобная акцентировка отвечала умонастроениям воспитанных в протестантской традиции американцев и, хотя, с одной стороны, несколько ослабляла провиденциальный смысл этого эпизода как встречи двух разных миров, с другой — способствовала легкости его восприятия. В любой нюансировке, именно драма первой половины XIX в. превратила этот сюжет в один из первых, наиболее устойчивых и значительных мифов массового американского сознания.
К середине столетия на этот сюжет было написано по крайней мере еще две пьесы, а в 1855 г. появился знаменитый бурлеск Джона Брума "По-ка-хон-тас, или Нежная дикарка". Сам Джон Брум (John Brougham, 1810—1880) принадлежит к числу тех, чью национальную принадлежность определить практически невозможно — особенно частый случай с актерами и вообще людьми театра, ведущими кочевой образ жизни. Родившись в Ирландии, где он закончил Тринити-Колледж, Брум в 1830 г., прибыв для продолжения образования в Лондон, поступает вместо этого в актеры, играя в различных театрах, а в 1842 г. отправляется в Америку, где с перерывами (в частности, в годы Гражданской войны он вновь работал в Лондоне) выступает до конца жизни. Хотя его попытки завести собственную антрепризу неизменно кончались провалом и финансовым крахом, как комический актер он царил на американской сцене, особенно прославившись своими импровизациями. Брум был также необычайно плодовит как автор. Из-под его пера вышло свыше 120 пьес, среди которых были инсценировки современных романов: "Давид Копперфильд" и "Домби и сын" (одно из самых популярных его творений) Диккенса, "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Ярмарка тщеславия" Теккерея; мелодрамы, от готических до сенсационных: "Ночь и утро" (1855), "Оружейник из Москвы" (1857), "Лотерея жизни" (1868); сатирические пьесы: "Романтика и реальность, или Юный виргинец" (1858) и масса других. Но особенно Брум прославился своими травестиями и бурлесками: "Columbus el Filibustrd" ("Колумб-флибустьер"), "Великое трагическое пробуждение" (1858), "Много шума о венецианском купце" (1869). К числу последних принадлежит и его "По-ка-хон-тас".
Пьесы Брума отличались большой занимательностью, изобретательностью и разнообразием сюжетов и жанров, а подчас и смелыми драматургическими новациями. Так, в пьесе "Скандал в "Лицеуме" (1851) начальная сцена представляла собой репетицию, ход которой прерывался протестами некоего господина из публики — его роль исполнял сам Брум, — узнавшего в одной из исполнительниц свою жену и требовавшего, чтобы она прекратила это безобразие и возвращалась к своим прямым обязанностям. Это пример не только одного из многочисленных выступлений драматурга по "женскому вопросу", широко дебатировавшемуся тогда в американской печати, но и драматургических прозрений, которые посещали порой этого многообразно одаренного человека. Выступления на злободневные темы в изобилии рассыпаны и по тексту "По-ка-хон-тас", где они создают комический эффект, сохраняющий силу и полтора столетия спустя. Удачно обыгрывая анахронизмы, Брум не упускает случая посмеяться над теми или иными сторонами современной жизни: повальным увлечением "Песнью о Гайавате", дебатами в Конгрессе, запальчивостью феминисток, жаждой наживы и поклонением золоту, терпимостью в отношении рабства. Что касается основного сюжета, на который нанизывались современные аллюзии, по мнению исследователей, "По-ка-хон-тас", подобно другим бурлескам, большинство которых писалось на шекспировские тексты, пародировала не предшествующие ей литературные варианты этого сюжета, а манеру исполнения выступавших в них театральных кумиров. Обращение к истории Покахонтас в бурлеске говорит о том, что к этому времени она стала уже практически повсеместно известна и, следовательно, сам миф глубоко вошел в американское сознание. В обработке Брума сюжет имел феноменальный успех. Пьеса оставалась в репертуаре на протяжении 30 лет, притом не было ни одного сезона, когда бы она не была показана во всех крупнейших городах Америки.

Среди бурлесков Брума есть еще один, написанный на индейский сюжет, — "Метамора, или Поллиуоги", в котором пародировался стиль Эдвина Форреста, первого крупного американского трагического актера, нарушившего безраздельное господство англичан-трагиков на американской сцене. Литературной основой ему послужила пьеса Дж. О. Стоуна "Метамора, или Последний из Уомпаноугов" (1828). По профессии, как это было нередко среди драматургов того времени, Джон Огастес Стоун (John Augustes Stone, 1800—1834) был актером, исполнителем характерных ролей, главным образом стариков. Через несколько лет после своего сценического дебюта он обратился к драматургии, оставив после себя около десятка пьес, из которых лишь одна была опубликована при его жизни. Первая из них, "Возвращение, или Алмазный крест", была поставлена в 1824 г. За ней последовали "Танкред, или Осада Антиохии" (опубл. в 1827 г.), не удостоившаяся постановки, "Лев Запада", обработка одноименной пьесы Джеймса Керка Полдинга, "Бесноватая, или Невеста пророка" (обе — 1831), "Древний британец" (1833), "Рыцарь золотого руна, или Янки в Испании" (1834). В отношении двух других пьес Стоуна известно лишь, что они исполнялись в Чарльстоне, но даты отсутствуют: это "Фаунтлерой, или Роковая подделка" и "Ля Рок, цареубийца". Ему приписывается еще одна пьеса, от которой уцелело только название, "Туртаун".
"Метамора, или Последний из Уомпаноугов" (Meta-mora, or The Last of the Wampanoags, 1828). Она была написана Стоуном в ответ на объявление, помещенное Эдвином Форрестом в нью-йоркской газете "Критик" в ноябре 1828 г.: победителю конкурса на "лучшую трагедию в пяти актах, героем которой или главным персонажем был бы абориген этой страны"16, по решению "авторитетного" жюри предполагалось, помимо почетного звания, выдать премию в 500 долларов и часть сборов со спектакля. Стоун выиграл конкурс. Форрест на протяжении последующих 40 лет играл "Метамору" при полных аншлагах. Пьеса принесла ему не только славу, но и огромное состояние, из которого драматург не" получил практически ничего и, не выдержав испытаний судьбы, покончил жизнь самоубийством.
"Метаморы" считался утраченным, пока в 1960 г. не удалось собрать его целиком по разрозненным фрагментам в различных хранилищах. Прообразом протагониста послужил знаменитый индейский вождь, известный под именем Короля Филипа. В XVII в. он возглавил войну против английских поселенцев в Новой Англии, надеясь остановить их продвижение на индейские территории. Положив реальную историю в основу своей пьесы, Стоун предложил типично романтическую ее трактовку. Особенно проявилось это в образе героя трагедии, который близок возвышенным персонажам Купера. Метамора — законченный романтический герой: отважный воин, человек безупречной чести, благородства и доблести, непримиримый к жестокости и насилию, даже когда они обращены не против членов его племени. Он наделен мудростью и способностью прозревать будущее. Зная, что его народ обречен, он, несмотря на фатальную бесполезность борьбы, не желает склонить голову перед завоевателями. Как истинный индейский вождь, он наделен красноречием, его речь исполнена подлинного достоинства, а вместе с тем в определенные моменты, особенно когда она обращена к жене, — нежности.
С историей Метаморы тесно переплетается судьба скрывающегося в лесах под вымышленным именем цареубийцы и его юной дочери Океаны, полюбившей сироту Уолтера, оказавшегося в действительности сыном знатного вельможи, у которого он был похищен в младенчестве с расчетом на выкуп. Однако отец прочит Океане в мужья богатого и знатного Фицарнольда, прибывшего на корабле с военным отрядом для покорения индейцев. Видя, что девушка не любит его, тот решает завладеть ею силой. Ее спасает Метамора, укрывает в своем жилище, обещает помощь и покровительство и в конце концов сохраняет жизнь ее отцу, захваченному индейцами. Потерпев поражение в схватке с белыми, узнав также о гибели своего ребенка, утонувшего, когда солдаты преследовали его жену, травя ее, как зайца, он, убив жену, выходит навстречу англичанам, призывая смерть.
Любопытен сам феномен популярности у американской публики "индейских" пьес, которых на протяжении всего XIX в. было написано свыше 70. Объяснение, думается, коренится в специфической реакции американского сознания. Воспитанные в духе пуританской традиции на принципе типологии, американцы, по-видимому, усматривали в речах и поступках индейцев тип (в специальном религиозно-доктринерском значении термина) той свободы, которая была завоевана ими в годы революции. Недаром нередко именно один из англичан выступал в подобных пьесах в роли злодея. В "Метаморе" это Фицарнольд. Более того, как правило, такой персонаж был представителем аристократии и соответственно наделялся теми пороками, которые для американского сознания являлись одной из нравственно-психологических причин революции. Это и позволяло предпочесть нравственно-идеологические связи (американцы и коренные жители континента) родственно-генетическим (американцы и англичане) в идеальном контексте литературного произведения, тем более произведения романтического. Отождествление с идеальным героем-индейцем на сцене отнюдь не препятствовало американцу в реальной жизни продолжать ограбление, прямое истребление и вытеснение аборигенов с их исконных территорий.
выступали как основатели будущей свободной Америки, они противопоставлялись опустившейся и разлагающейся Европе, погубленной властью и пороками аристократии, и представали воплощением не только высшей воинской доблести и благородства, но и демократических принципов. Авторские симпатии разделяли индейцы, понимавшие цивилизационную роль белых и приветствовавшие союз с ними, а роль злодея отводилась в этом случае индейцу, наиболее решительно отвергавшему его. Такой подход, не исключавший, надо сказать, осуждения некоторых сторон колонизаторской политики (страсти к наживе, прямого обмана аборигенов, как, например, когда в качестве даров английского короля Повхатану предлагаются мельничный жернов и две мортиры, в ответ на что тот должен признать себя подданным британской короны), также давал возможность зрителю для самоотождествления с героем. Характерно, что в этой ситуации в игру вводились иные мотивы: призывы к свободе, явно неуместные при захвате чужих владений, практически отсутствуют, они сменяются патриотическими речами и пророчествами грядущей славы Америки. Проявившаяся в этом амбивалентность американского сознания в отношении собственного прошлого отразилась в многообразии трактовок исторической проблематики, в частности, индейской, неизменно приобретавших, однако, национально-патриотическую окраску.

Современные обертоны присутствуют и в многочисленных интерпретациях сюжетов, заимствованных из иных исторических эпох, в особенности — античного Рима. Красноречивым примером может служить в этом отношении "Брут" Джона Хауарда Пейна (John Howard Payne, 1791—1852). Против воли отца Пейн в 1809 г. поступил на сцену. Дебют его прошел столь успешно, что критика окрестила его "американским Росцием". В числе ролей Пейна были Ромео, Танкред и даже Гамлет, сыграть которого ему первому выпала честь среди американских актеров. Он исполнял также роль Эдгара в "Короле Лире" с великим английским трагиком Дж. Ф. Куком во время его гастролей в Америке. Однако решив, что он не может рассчитывать на родине на тот успех, которого ему хотелось добиться, Пейн в 1813 г. отплывает в Англию, где прошли следующие 20 лет его жизни. Здесь его актерская карьера, несмотря на удачный дебют в Лондоне, не сложилась, и, вскоре оставив сцену, он целиком отдался сочинительству пьес, число которых, как принято считать, достигло 50—60. Правда, сочинением его деятельность можно назвать лишь условно — по большей части это были обработки модных европейских пьес того времени, по преимуществу французских — Эжена Скриба, Виктора Дюканжа, А. В. П. Дюваля и др. Не был обойден вниманием и бессменный Коцебу, которого Пейн "переложил", воспользовавшись двумя ранее выполненными переводами. В Англии Пейн познакомился со многими - выдающимися людьми той эпохи и не только в театральных, но и литературных кругах: Кольриджем, Саути, Мэри Шелли, друзьями Байрона, Чарльзом Лэмом. Многие из них приняли участие в его судьбе, в особенности Вашингтон Ирвинг, в соавторстве с которым Пейн напирал шесть пьес, в том числе лучшую свою комедию "Карл II, или Веселый монарх" (1824). Ирвинг, как говорилось, наложил категорический запрет на упоминание его имени в связи с этими пьесами — столь сомнительна была в его глазах слава драматурга. Несмотря на популярность пьес, приносивших славу актерам и деньги антрепренерам, они не упрочили положения Пейна, который часто бедствовал. В 1832 г. он возвратился в Америку, сделал неудачную попытку стать издателем литературного журнала, выступал в печати, в том числе в "Демокрэтик ревью" и в последние годы отошел от театра. После путешествия по южным штатам он заинтересовался судьбой индейцев, выпустив книгу "Древние традиции чероки" (1849), а в нынешнем веке по его материалам была издана еще одна книга на эту тему — "Индейская справедливость: суд по делу об убийстве чероки" (1934). Дважды, в 1840 и 1845 годах Пейн назначался консулом в Тунисе, где и окончил жизнь. В отношении посмертной славы Пейна судьба оказалась не менее капризной, чем при жизни: в памяти потомков остались не его пьесы, а необычайно популярная — до почти полной утраты имени автора — песенка "Дом, милый дом", написанная им для пьесы "Клари" (1823).
К какому бы жанру ни обращался Пейн: мелодраме, комедии, трагедии (а он начал писать для театра очень рано: его первая пьеса была поставлена в Нью-Йорке в 1806 г., когда автору исполнилось всего 14 лет), его произведениям неизменно присуще природное чувство драматизма и безошибочное чутье сцены. Удачно сочетались эти качества в "Бруте" {Brutus, 1818), наиболее, пожалуй, знаменитой пьесе Пейна. Ее лондонская премьера отмечена участием Эдмунда Кина — незадолго до нее автор был выпущен на один день из долговой тюрьмы, чтобы дать наставление актерам. В Америке ее премьера состоялась в 1832 г. с Форрестом в главной роли, которую впоследствии исполняли Дж. Б. Бут, а затем и Эдвин Бут.
Сюжет своей пьесы, в которой легко угадывается влияние римских трагедий Шекспира ("Юлий Цезарь" и "Кориолан"), Пейн почерпнул у Плутарха. В его изложении история узурпации власти в Риме Секстом Тарквинием, а затем его падения после того, как он обесчестил Лукрецию, перекликается с событиями недавней американской истории. Пейн разумно избегает сюжетных параллелей, ограничиваясь общностью ситуации, притом весьма отдаленной. Уничтожение тирании, в котором видит свой жизненный долг герой пьесы, было именно той задачей, которая за несколько десятилетий до написания пьесы решалась в ходе Американской революции. Мотив любви к родине и самопожертвования ради ее свободы становится ведущим в характеристике протагониста пьесы, Люция Юния, прикинувшегося ради спасения жизни слабоумным и прозванного за то Брутом. Он мечтает отомстить узурпатору, свергнувшему его отца и убившему его брата, но сознает, что его миссия выше личной мести и личной трагедии. "Свершить мне дело благородней суждено", — восклицает он. Ради того, чтобы "свободу дать стенающей стране", он готов порвать все другие узы. Самоубийство поруганной Лукреции, которая становится символом оскверненной тираном родины, должно, как полагает Брут, пробудить угасшие гражданские доблести римлян. Но, когда узурпатор повергнут, ему вновь, только совсем иначе, необходимо подняться над личным чувством: Бруту предстоит судить сына, ради любви к юной Тарквинии принявшего сторону тирана. Герой не истребляет в своем сердце родительской любви, но ради высшей любви — к родине — выносит сыну смертный приговор, сам падая замертво со словами: "Справедливость воздана и Рим свободен!".
"Серторий", автор которой, без сомнения, также избрал за образец шекспировских "Кориолана" и "Юлия Цезаря". Юрист по профессии, Дэвид Пол Браун (David Paul Brown, 1795—1875) обращался к литературным занятиям скорее для развлечения, нежели движимый всепоглощающей жаждой творчества, отличающей истинного художника. Он высоко ценил Шекспира, читал о нем лекции и даже написал "Очерки жизни и гения Шекспира". Но это был весьма специфически понятый Шекспир, составить представление о котором можно по следующим рассуждениям Брауна о Гамлете: "Он обладает в высшей степени теми качествам, которыми приобретается и удерживается расположение. Его манеры открыты и учтивы; его беседа исполнена блеска и живости; а его нрав дружелюбен и доброжелателен. (...) ... И он наделен готовностью, самообладанием и тактом, которые никогда его не покидают" (13; р. 181). "Серторий", в котором блистал Дж. Б. Бут, был написан в 1830 г. Действие трагедии происходит в Лузитании, куда удалился Серторий, видя, что Рим гибнет, раздираемый эгоистическими и корыстными интересами знати. Но и в изгнании он остается "римским патриотом", отказываясь заключить союз с понтийским царем Митридатом против Рима. Всеми помыслами героя владеет желание возродить былое величие Рима, колыбели свобод и прав. В его исполненных патриотического воодушевления речах, славящих республиканские добродетели, американская публика того времени слышала отголоски воззваний, вызвавших историческую бурю, гром которой не заглох за давностью лет.
Если национально-патриотические настроения окрашивают трактовку исторических сюжетов, они естественно составляют основу тех пьес, что посвящены непосредственно Американской революции. Среди последних чаще других привлекала внимание исходно исполненная драматизма история измены генерала Арнольда и переплетающаяся с ней история английского шпиона Андре. Первые отклики в драме на эти события появились почти сразу после революции. Интерес к ним не угас и полвека спустя, о чем свидетельствует появление таких пьес, как "Арнольд" (1854) Дж. Ортона и "Андре" (1856) У. У. Лорда. Оба эти персонажа присутствуют в каждой из названных пьес, получая несколько отличную трактовку. Лорд лепит образ Андре по модели романтического героя, более всего озабоченного сохранением чести. Ортон же стремится представить Арнольда трагическим злодеем по типу шекспировских. Создавая мотивацию его измены, он всячески подчеркивает несправедливости, совершенные по отношению к Арнольду революционными властями. Складывающаяся ситуация весьма сходна с ситуацией Кориолана и даже, по мысли драматурга, короля Лира, чьи слова "передо мной другие виновней, чем я пред ними", как будто мог бы повторить и Арнольд. Однако это натяжка: страдания уязвленного честолюбия Арнольда не могут идти ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить Лиру по воле других, ни, тем более, с теми внутренними муками, которые порождены осознанием им зла в мире и в себе.
Следует, пожалуй, упомянуть также комедию О. Б. Банса "Любовь в 76-ом. Происшествие в эпоху революции" (1857). До нее он написал. две трагедии, но обращение к драматургии осталось для него кратковременным эпизодом, хотя интерес к театру и драме широко проявился впоследствии в его деятельности издателя, журналиста и критика. Комедия Банса привлекательна отсутствием велеречивых, исполненных пафоса деклараций любви к свободе, которые составляли непременную оснастку пьес, посвященных революции, и живым ощущением социальных отношений и характеров, что придавало ей определенную свежесть и новизну.
Разработка патриотической темы в комическом ключе отнюдь не направлена на развенчание революции. Напротив, все — от характеристики героев до развития сюжета — должно пробуждать восхищение и гордость героическими событиями, которые, отодвигаясь с каждым днем все дальше в прошлое, не могут померкнуть в памяти тех, кто унаследовал плоды победы. Безоговорочную блестящую победу одерживает в комедии Банса молодая девушка, твердо верящая в правоту американского дела, тогда как остальные члены семьи симпатизируют лоялистам. Благодаря смекалке, находчивости, остроумию и вере в торжество справедливости Роз наголову разбивает своего главного соперника, майора английской армии Кливленда. Будучи не в силах выиграть поединок с ней в честном бою, он пускается на низкие ухищрения и, запятнав честь, лишается сочувствия прежних своих сторонников, а посрамившая его Роз одерживает не только нравственную победу, но и спасает своего возлюбленного, капитана революционной армии.
Хаттона (Joseph Hutton, 1787— 1828) "Модные причуды" {Fashionable Follies), написанная в 1809 г. и опубликованная в 1815 г., хотя так и не увидевшая света рампы, несмотря на то, что была принята к постановке и даже репетировалась. Актер по профессии, Хаттон писал не только пьесы, но и стихи, в которых без труда обнаруживается влияние В. Скотта. Собственно драматургическая его деятельность была весьма непродолжительна: ей он отдал примерно два года, в течение которых написал пять пьес — две из них удостоились постановки. Судя по сохранившимся названиям, возможно, были и другие, но достоверные сведения на этот счет отсутствуют. В разработке основной ситуации "Модных причуд", а отчасти и в характеристике персонажей ощутимо влияние Шеридана. Вместе с тем в комедии проявилось и стремление автора представить различные американские типы. Если в одних случаях Хаттону удается лишь обозначить американские обстоятельства (служба капитана Дорривиля в американском флоте и пленение алжирскими пиратами), то в других он схватывает определенные жизненные черточки, особенно в обрисовке семьи бедных фермеров-квакеров Плаубоев, людей исключительной честности и нравственного достоинства. В целом пьеса стоит ближе к эпохе Просвещения, нежели романтизма, хотя в ней и присутствуют отдельные романтические черты.
— стремление Чарльза Дилэнси, бонвивана и жуира, завести, следуя "причудам моды", любовницу, для чего обманом заманить и похитить Марию. Он решает даже нагло втянуть в интригу своего давнего друга, капитана Джорджа Дорривиля, брата Марии, не посвящая его в подробности своих гнусных планов, а когда тот их разрушает, Дилэнс, воспользовавшись его долговой распиской, добивается заключения капитана в тюрьму. Возвращение отца Марии позволяет вернуть в жизнь надлежащий порядок. Сколотив за долгие годы вынужденного отсутствия состояние, достаточное для восстановления своего честного имени, он кладет конец злоключениям положительных героев: вызволяет из тюрьмы Джорджа и благославляет брак Марии с ее возлюбленным. В финале^происходит нравственное перерождение Дилэнси, объяснимое скорее его драматургической родословной, ведущей прямо к Чарльзу из "Школы злословия", нежели внутренним развитием характера.
Попытки освоения американской типажности демонстрируют и комедии Чарльза Брека, Джона Миншалла, Джеймса Керка Полдинга и других авторов. Особый интерес представляют в этот период комедии и фарсы, в которых разрабатывается характер янки (в то время различия между комедиями и фарсами не носили принципиального характера, и жанровая принадлежность определялась главным образом исходя из размера сочинения: фарсы были короче и исполнялись по окончании основного спектакля, будь то готическая драма, комедия, мелодрама или трагедия, пусть даже и самого Шекспира). Начало положил, как известно, Ройал Таил ер своей комедией "Контраст", где янки выведен чистосердечным простаком. Этот персонаж в том или ином обличье появляется в комедиях начала XIX в., а примерно с середины 10-х годов приобретает большую популярность у публики и актеров, чья слава, как, например, Джозефа Джефферсона и всей актерской династии Джефферсонов, затмила имена сочинителей. Среди тех, кто внес свою лепту в создание образа янки, который в прямом смысле слова был коллективным творением, следует назвать Дэвида Хамфриса ("Янки в Англии", 1814), Дж. К. Полдинга ("Оленьи хвостики", написана в начале 10-х годов, поставлена и опубликована в 1847 г.), Сэмюэля Вудуорта ("Лесная роза, или Американские фермеры", 1825), Ричарда Б. Пика ("Джонатан в Англии", 1824). К этой же категории примыкают многочисленные инсценировки "Рипа Ван Винкля", первая из которых была поставлена в 1828 г. Наибольшей известностью пользовалась инсценировка Д. Бусикоу, в которой с 1865 г. блистал Дж. Джефферсон III, с большой выразительностью исполнявший роль ирвингов-ского героя на протяжении 40 лет.
Вообще инсценировки занимали тогда большое место в театральном репертуаре. Редко когда их можно было отнести к числу драматургических удач. Но для достижения успеха этого и не требовалось. Самой популярной стала, как известно, "Хижина дяди Тома", которая имела огромный социально-политический резонанс и более десяти лет во множестве сценических версий шла с полным аншлагом по всей стране, и в больших, и в малых, и даже крошечных городах, за исключением южных штатов, где на нее был наложен запрет.
ирландца; с трудом адаптирующегося к американской обстановке француза, а также негра в роли комического слуги. Поскольку согласно требованиям комедии, речь персонажей должна быть приближена к живой речи, каждый из названных типов вносил свои краски в языковую палитру пьес. Таким образом в них врывалась свежая струя народного языка. Ныне прочно забытые, эти сочинения готовили почву для языковой реформы Марка Твена, опережая ее на полстолетия. С помощью языка достигалась к тому же несомненная "американизация" стереотипных сюжетов, составлявших основу большинства тогдашних пьес.
Сложившемуся жанру в общих чертах следует и А. К. Моуатт в своей комедии "Мода". Вместе с тем ситуация и характеры обрисованы в ней с такой яркостью, непосредственностью и безошибочной точностью, что в пьесе не ощущается усталости многократно использованных форм, а говорит живое чувство. Анна Кора Моуатт (Anna Cora Mowatt, 1819—1870) была яркой, многосторонне одаренной личностью: писала стихи, выпустив в 1836 и 1837 г. два поэтических сборника, и романы — "Охотники за состоянием" (1842), "Эвелина, или Сердце без маски" (1845) и другие; опубликовала два сборника рассказов "Жизнь лицедея, или Перед занавесом и за занавесом" (1856) и "Жена священника" (1867), автобиографию "Автобиография актрисы, или Восемь лет на сцене" (1853), а также несколько книг самой разнообразной тематики, от "Жизни Гете" (1844) и "Итальянской жизни и легенд" (1870) до "Этикета ухаживания и брака" и "Обслуживания комнаты больного" (обе — 1844). Она с успехом выступала с чтением стихов в Нью-Йорке и Бостоне, хотя и долго отвергала предложения поступить на сцену, пока ее не вынудили к тому стесненные обстоятельства.
"Цыган-скиталец", за которой последовали "Гюльсара, или Персидская рабыня" (1840), "Мода, или Жизнь в Нью-Йорке" {Fashion, or, Life in New York; пост. 1845, публ. — 1849) и "Арман, или Пэр и крестьянин" (1847). Три последние были поставлены, а "Мода" с большим успехом шла не только в Америке, но и в Лондоне и Дублине. Удачными оказались и ее постановки, осуществленные в XX в.
"Мода" несомненно принадлежит к тому же типу, что и "Контраст" Р. Тайлера, выявляя общие родовые черты в трактовке конфликта и характеров. В своей комедии нравов Моуатт направляет жало сатиры на нуворишей, которые, обзаведясь огромным состоянием, не успели скопить знаний и приобрести минимальный культурный багаж. С высоты своего новообретенного положения они отвергают все отечественное как грубое и вульгарное, преклоняясь перед всем французским, хотя никто в семействе Тиффани не может правильно произнести ни одного французского слова. Посланцем из далекого Парижа, способным воплотить их самые вожделенные мечты, представляется им некий "граф", осчастлививший своим посещением американские берега. За него миссис Тиффани прочит свою дочь, меж тем как "граф", уверенный, что миллионы у него уже в кармане, не хочет упустить и приглянувшейся ему Гертруд. Эта умная, глубокая и чистая девушка противопоставлена ничтожным Тиффани во всех отношениях. Ей удается не только спастись от преследований "графа", но и раскрыть его обман: претендент на миллионы оказывается на самом деле лакеем, которого давно ждет его возлюбленная — горничная у Тиффани. Гертруд с ее решительным, прямым и честным нравом, а также старый мистер Трумен, откровенно выражающий недовольство французскими пристрастиями Тиффани, воплощают лучшие черты американского характера. Эти персонажи, а также общая композиция пьесы говорят о связях с просветительскими настроениями, сохранившимися до середины XIX в. Он-то — этот характер — оказывается той подлинной ценностью, которой, по мысли автора, не может затмить ни блеск бриллиантов, ни заморский лоск манер, прельщающих лишь невежд.
остроумии, чувстве юмора и легкой, изящной манере письма. Правда, Эдгар По, не пропустивший ни одного спектакля "Моды" во время ее первой постановки и посвятивший ей три рецензии, считал все же, что достоинства пьесы не литературного свойства. Он возводил "Моду" к "Школе злословия", хотя это суждение По и не представляется абсолютно бесспорным. Ставить же Моуатт в упрек то, что она обратилась к жанру комедии нравов, которая в течение двух столетий шлифовалась на английской, а затем и на американской сцене и которой она с таким успехом воспользовалась, едва ли оправданно. Вобравшая наиболее привлекательные черты, присущие в ее время американской комедиографической традиции, "Мода" по справедливости удостоилась названия лучшей американской комедии XIX в.
Из всех драматургических жанров, бытовавших на американской сцене в XIX в., самым консервативным оказалась трагедия. За крайне редким исключением (например, "Суеверие" Баркера) она, в отличие от комедии и даже мелодрамы, была невосприимчива к реалиям окружающей жизни, а в отношении формы упорно следовала образцу елизаветинской драмы как единственно возможному. Этим путем шли упомянутые выше Дж. Х. Пейн и Д. П. Браун. Не отступал от него и Р. М. Берд (1806—1854), автор девяти пьес, созданных за короткий промежуток времени с 1831 по 1834 г., четыре из которых вышли победительницами в конкурсе Э. Форреста.
Не изменил этого положения и Джордж Генри Боукер (George Henry Boker, 1823—1890). Высоко образованный человек, он предпочел занятиям юриспруденцией литературную деятельность, что не помешало ему занимать пост посла в Турции (1871—1875), а затем в России (1875—1878). Боукер писал стихи, выпустив при жизни шесть поэтических сборников. В 20-е годы XX в. был опубликован еще один, под интригующим названием "Сонеты — Цикл о земной любви" (1929). В стихах написаны и его пьесы, выдержанные в форме елизаветинской трагедии и комедии. Значительная их часть была опубликована в 1856 г. в двухтомнике "Пьесы и стихи" {Plays and Poems). Первая пьеса Боукера, "Калайнос" (опубл. 1848, пост. 1849), а также "Леонор де Гусман" (пост. 1853) написаны на сюжеты из испанской истории, "Анна Болейн" (пост., опубл. 1850) излагает трагическую историю одной из злосчастных жен Генриха XVIII. В центр написанных в комическом ключе пьес "Обручение" (пост. 1851) и "Брак вдовы" (пост. 1852) вынесены личные отношения и матримониальные проблемы. Судя по прижизненным изданиям и постановкам, занятия Боукера драматургией продолжались сравнительно недолго, с конца 40-х до середины 50-х годов. После этого им была написана лишь одна пьеса, "Нилия", которую он несколько раз перерабатывал, озаглавив в последней редакции "Главк" (под этим названием. она была опубликована с двумя другими пьесами, "Мир — маска" и "Банкрот", в 1940 г.).
"Франческа да Римини", за которой закрепилось название лучшей американской трагедии XIX в. Оконченная в 1853 г. и поставленная в 1855 г., эта трагедия впоследствии неоднократно вновь появлялась на американской сцене, вплоть до XX в., правда, в довольно отличной от опубликованного варианта форме, либо в переработке автора, который продолжал вносить в нее изменения, либо в версии, предложенной постановщиками. Написанная на знаменитый сюжет из "Ада" Данте, пьеса Боукера отмечена истинной поэтичностью и глубоким драматизмом. Драматург предложил оригинальную трактовку этого сюжета: причиной трагедии выступает у него не злобность и жестокость одного человека, а непримиримая борьба феодалов, в глазах которых отдельная человеческая личность не имеет никакой ценности и может быть принесена в жертву их интересам.
— одна из несомненных удач драматурга. Еще в прологе к своей первой пьесе, "Калайнос", Боукер провозглашал, что задача драмы — показать мир, как он есть, мир, где живут не боги, а обыкновенные люди, обуреваемые страстями самого противоположного свойства, в душах которых тесно переплелись порок и добродетель. Ни в одной из своих пьес не воплотил он эту программу с такой художественной силой и убедительностью, как во "Франческе да Римини", где в трагическом противостоянии столкнулись три равно благородных характера. Самый интересный из них — Ланчотто, которого принято изображать мрачным злодеем без единого человеческого проблеска в душе. Боукер увидел в нем отважного, доблестного воина, беззаветно преданного родине. Под безобразной внешностью, которой наделила его безжалостная природа, скрывается совсем не жестокое, а умеющее любить и страдать сердце и живой, склонный к философскому созерцанию ум. Ланчотто отказывается подчиниться воле отца, намеренного женить его на Франческе ради замирения с соседним княжеством, длительная война с которым истощила родной город, и уступает лишь просьбам горячо любящего его Паоло, искренне мечтающего о том, чтобы весь мир воздал должное мужественному Ланчотто, рыцарю без страха и упрека. Даже в самый последний момент, когда он увидел и беззаветно полюбил Франческу, Ланчотто, поняв, что она была обманута отцом, оставляет за ней полную свободу выбора.
Однако в раздираемом феодальными распрями мире политических интриг и циничного расчета, коварства, вероломства и предательства, благородство неспособно предотвратить катастрофу, в которую наряду с могущественными властелинами вносит свою лепту придворный шут, Пепе. Годами снося насмешки и поношения господ, он копил в душе ненависть, мечтая отомстить за свое оскорбленное достоинство. Фактически он говорит в пьесе от лица низов, попираемых и презираемых аристократией. Такой поворот действия вносит специфически американский, "демократический" акцент в трактовку конфликта. Выступая орудием рока, Пепе, подобно Яго, пытается убедить Ланчотто в измене Франчески, надеясь пробудить в нем слепой гнев. В этом мотиве рока и борьбе неистовых страстей, пожалуй, ощутимее всего сказалось в пьесе влияние романтизма. Постепенно яд проникает в его душу, и, охваченный ревностью, Ланчотто убивает Паоло и Франческу, самых дорогих и близких ему людей. Но, склоняясь перед могуществом любви, исполняет последнюю просьбу брата и кладет умирающего Паоло подле Франчески, как бы благословляя их союз. В прелестном образе Франчески, нежной и искренней, можно порой уловить легкие черточки американской девушки, прямой, волевой и решительной, не нарушающие общей его гармонии, а лишь помогающие вдохнуть в него жизнь.
Как показывают пьесы "Обручение" и "Брак вдовы", Боукеру была послушна не только трагическая муза, но и муза комедии. В обеих, особенно последней, ощутимо влияние комедии эпохи Реставрации. Юмор в "Браке вдовы" заметно окрашен цинизмом, а нравственные устои героев оказываются довольно зыбкими. Однако в разработке действия у Боукера проявляется двойственность, вносящая существенные коррективы в его восприятие, позволяя видеть сюжет в двойной перспективе: наиболее сомнительные забавы героев — это, как выясняется, всего лишь розыгрыш, имеющий благую цель. Таким путем группа великосветских щеголей и остроумцев решила вернуть на путь истинный не в меру бойкую вдову, которая в поисках любовных приключений оставила молодежь далеко позади. Вопреки прописной морали, молодым людям удается убить двух зайцев — и вразумить, как было задумано, вдову, и прекрасно развлечься. Вместе с тем само наличие второго плана в структуре драмы говорит о том, что автор учитывал настроения американской аудитории, которой не могла прийтись по вкусу фривольная игривость комедии Реставрации, не будь она подана в соответствующем ключе.
Говоря о развитии комедии в XIX в., следует особо выделить одну из сугубо американских разновидностей сценического искусства — "представления менестрелей". Своим возникновением эта театральная форма, как принято считать, обязана актеру Томасу Дартмуту ("Дэдди") Райсу (1806-1860), хотя на этот счет существуют и другие мнения. В 1828 г., исполняя в спектакле роль негра, он в том же гриме показал во время антракта имевший огромный успех номер с танцем и песенкой, в припеве которой повторялось имя Джима Кроу. Основой импровизации Райса послужила виденная им жизненная сценка. Под руководством негра-слуги, который, пританцовывая и напевая, чистил лошадь, актер разучил песенку, к которой присочинил несколько куплетов, и нехитрые движения. Восторг первых зрителей вызвали точно подмеченные детали в обрисовке знакомой ситуации и типажа. Вдохновленный успехом, Райс постоянно расширял свой песенный репертуар, а впоследствии, определенным образом соединив несколько подобных песен, показал, вероятно, первую так называемую "эфиопскую оперу: " Скетчи Райса, широко публиковавшиеся и исполнявшиеся по всей стране, были мини-моноспектаклями, хотя известно, что однажды он завершил номер, выпустив из мешка четырехлетнего Джозефа Джефферсона (будущего знаменитого актера) в полном гриме и лохмотьях, который безупречно сымитировал интонации и телодвижения Райса.

В 1843 г. появилась первая группа "менестрелей", пик популярности которых приходится на 50—70-е годы XIX в. В числе наиболее известных — "Менестрели Кентукки", "Мелодисты Конго", "Оригинальные менестрели Кристи" (для них создал свои лучшие песни Стивен Фостер). Все это были белые группы, работавшие для белой аудитории, — неграм запрещалось выступать в них до окончания Гражданской войны, и даже тогда они могли появляться только в гриме. Постепенно спектакли менестрелей по своей структуре заметно усложнились и наряду с песнями, танцами, инструментальной музыкой и монологами включали также бурлески. Однако изначальные реалистические черточки вытеснялись в них условными, и в 60—80-е годы в представлениях менестрелей все больше доминировали стереотипы. Именно в этих представлениях окончательно оформился комический образ негра-слуги, беззаботного, вечно веселого, не знающего ни хлопот, ни забот, ленивого и непостоянного человека, который любит ярко одеваться, петь песенки, да лакомиться арбузами, добытыми неведомо каким путем. Эта социально-психологическая карикатура, лишенная глубины подлинного характера, стала одним из наиболее устойчивых стереотипов, которые предстояло сокрушить американской драме, когда она пожелала стать искусством.
Порождение реальной американской ситуации, представления менестрелей отражали характерную для нее двойственность. Объективно они служили признанием существования самобытной культуры афро-американцев и в то же время несли на себе печать расовых предрассудков. Пытаясь воспроизвести особые песенные, музыкальные, танцевальные формы, бытовавшие в негритянской среде, поэтические интонации и своеобразные ритмы негритянского фольклора, менестрели, сами того не сознавая, отдавали дань уважения народно-поэтическому творчеству чернокожих. Подражая безымянным негритянским исполнителям, они как бы выводили само их искусство на новую ступень. Однако это происходило так, что непременным условием было отчуждение этого искусства от его творца. В результате трансформаций, которые претерпевал в этом случае негритянский фольклор, происходила также и смена адресата: созданный чернокожими для употребления в своей среде, он становился исключительно достоянием белых, предназначенным также исключительно для белых, отражая в сфере культуры социально закрепленное расовое неравенство.
Форма оказалась недолговечной. Афро-американцы негативно относились к представлениям менестрелей, особенно в период борьбы за подлинное равенство рас, усматривая в них одно из проявлений не только расовой дискриминации, но и культурной экспансии белых по отношению к чернокожим.
"представлений менестрелей" относятся и попытки афро-американцев создать собственный театр. Согласно документальным свидетельствам, первый негритянский театр под красноречивым названием "Африканская роща" был открыт на Манхэттене в 1820 г. Можно предположить, что существовали также и другие, не попавшие в поле зрения прессы. Рассчитанный на довольно большую аудиторию (300—400 мест) он имел труппу, состоящую только из негритянских актеров, и ставил целью обращение именно к афро-американской аудитории. Постановки этого театра с первых же его шагов пользовались таким успехом — особенно удачны были их шекспировские спектакли,— что и среди белых было немало желающих их посмотреть. Так что вскоре для них была отгорожена часть зала — даже там, где по закону не было рабства, демократия не предусматривала и такого невинного смешения рас.
"Король Шотауэй", в основу которой были положены реальные события — восстание на острове Сент-Винсент. Несомненно, ее создателей привлекла в этом материале возможность прямого высказывания о рабстве и свободе, которое позволяло им выразить свое отношение к положению рабов в собственном отечестве.
К сожалению, столь успешно заявивший о себе театр просуществовал недолго — два неполных сезона. В 1822 г. он был закрыт из-за беспорядков, учиненных белыми хулиганами, по-видимому, специально явившимися на спектакль с этой целью.
В этом театре состоялся сценический дебют Аиры Олдриджа (Ira Aldridge, 18077—1867), великого негритянского актера, вскоре покинувшего родину, где у него не было никаких перспектив. Переехав в Англию, он начал блестящий творческий путь, открыв его исполнением роли Отелло, в которой великолепно проявились все стороны его трагического дарования. С успехом исполнял он также другие роли шекспировского репертуара (Макбет, Тит Андроник, Шейлок, Ричард III и др.), которые заслуженно принесли ему славу. Он много гастролировал по Европе (был и в России, где, в частности, выступил в роли Короля Лира, нигде им больше не исполнявшейся) и был признан выдающимся актером своего времени.
"Черный доктор" (Black Doctor) он сам перевел на английский язык или (принимая во внимание тогдашние методы работы с иноязычными текстами) скорее переложил и обработал для английской сцены. Это первый из ныне существующих драматических текстов, вышедших из-под пера афро-американца. Премьера состоялась в Лондоне в 1846 г., естественно, с участием Олдрид-жа. Уже само ее заглавие показывает, что собственно привлекло его в этой французской пьесе из эпохи Французской революции — это возможность выразить свое отношение к проблеме расовой дискриминации, несправедливости и предрассудков, которая для него, как и для всех афро-американцев, представляла жгучий интерес.
Первой оригинальной пьесой, написанной в США негритянским автором, считается "Побег, или Рывок к свободе" (1858) Уильяма Уэллса Брауна (см. также гл. "Жанр негритянской автобиографии. Возникновение романа" наст, тома), пробовавшего силы едва ли не во всех видах литературного творчества. Браун предназначал пьесу для аболиционистов, надеясь ее постановкой содействовать делу освобождения рабов. Однако возможностей поставить ее изыскать не удалось, и Браун сам читал ее в кругу друзей и на аболиционистских собраниях, где, по словам очевидцев, неизменно производил большое впечатление.
свободе. В обрисовке жизни плантации Браун использует принцип контраста, представляя сцены с участием рабов в остро драматическом или комическом ключе, тогда как плантаторы и их приспешники (надсмотрщики, работорговцы) изображаются преимущественно в сатирических или зловеще-гротескных тонах. Уже в самом начале пьесы, беседуя с женой о возможной в этих краях эпидемии, доктор Гэйнс (автор дает ему значащее имя, "Доходы") рассуждает о том, как она будет способствовать их-'процветанию. Прибывший работорговец заставляет их посмотреть на ситуацию с иной стороны: с началом эпидемии их главный товар может "подпортиться" — не лучше ли продать его, пока он предлагает хорошую цену. Сребролюбивый доктор оказывается к тому же еще и сластолюбцем: он уже нацелился на юную Мелинду. Ее-то в первую очередь и решает продать жена доктора. Он же из "гуманных соображений" (чтобы не разлучать семью) готов продать чету рабов, спрятав тем временем Мелинду в надежном месте. Отыскав тайник, его жена предлагает Мелинде яд, но девушка в таких обстоятельствах, наконец, решается на побег со своим возлюбленным.
По своей композиции, довольно рыхлой, пьеса тяготеет к жанру сцен, хотя и сшитых единым сюжетом, все же более интересных как зарисовки быта, нравов и обычаев, характерных для плантаторского уклада. Один из таких обычаев — "свадебный обряд", который жена доктора практикует среди своих черных слуг: достаточно им "перепрыгнуть через швабру", и они уже муж и жена.
так и негров с соседских плантаций. Сообразительный, находчивый, готовый придти на выручку другу, Катон ищет и находит возможности облегчить и свою участь, и удел своих собратьев. Сцены с ним исполнены неподдельного комизма и согреты теплым юмором, несомненно проистекающим из народной стихии. К сожалению, за этим первым драматургическим опытом нескоро последовало продолжение.
Оценивая в целом развитие драматургии в США в первой половине XIX в., приходится признать, что в это время не было создано произведений, обладающих непреходящей художественной ценностью. Хотя пьесы, подобные "Суеверию" Баркера, "Моде" Моуатт, "Франческе да Римини" Боукера, не лишены определенных достоинств, они все-таки представляют ныне в основном историко-литературный интерес. Главными достижениями этого периода в области драмы были устранение одного из главных препятствий на пути ее формирования как вида искусства — запрета на театральную деятельность, а также легитимизация театра. Однако в отсутствие развитой драматургической традиции театр пошел по пути коммерциализации, став прежде всего поставщиком развлечений, что, в свою очередь, превратило его впоследствии в новое препятствие для драмы, которое требовалось преодолеть. Пока же в драматургии медленно шло накопление национального материала и нащупывание национального типажа, а также, особенно в мелодраме, комедии и готической пьесе, освоение структур массового зрелища, против которых много десятилетий спустя выступила драма, но которые очень пригодились новорожденному искусству кино, особенно его массовой разновидности.
ПРИМЕЧАНИЯ
2 Цит. по: Grimstead D. Melodrama Unveiled: American Theatre and Culture 1800-1850. Chicago; L., The Univ. of Chicago Press, 1968.
3 Dwight, Timothy. Travels in New England and New York. 4 vols. L., William Baynes and Son, 1823, vol. 4, p. 343. Как и упоминаемое выше "Эссе о сцене", это сочинение было издано посмертно.
4 Цит. по: Meserve, Walter J. An Emerging Entertainment: The Drama of the American People to 1828. Bloomington; L., Indiana Univ. Press, 1974, p. 274.
6 Cooper, James Fenimore. Notions of the Americans. Philadelphia, Carey and Lea, 1828, v. 2, p. 107.
1 Ames, Fisher. Works. Boston, Little Brown, 1854, v. 2, p. 382.
8 Цит. по: Mellow, James R. Nathaniel Hawthorne in his Times. Boston, Houghton Mifflin, 1980, p. 34.
"Мхи Старой усадьбы". // Эстетика американского романтизма. Сост. А. Н. Николюкин. М., 1977, с. 384.
13 Representative Plays by American Dramatists, v. 2, 1815 to 1859. 1964, p. 182.
15 American Plays. Ed. by Allan Gates Halline. N. Y., 1976, p. 124.