
1
Писательская судьба Эдгара Аллана По (Edgar Allan Рое, 1809— 1849) сложилась необычно: непонятый на родине, практически совершенно забытый вскоре после своей ранней смерти, он был оценен не у себя дома, а в Европе, и только вслед этому — тоже запоздавшему — триумфу стал привлекать заинтересованное внимание соотечественников. Впрочем, известная настороженность в отношении реальной творческой ценности созданного По сохранялась у американских критиков, причем самых авторитетных, еще долгое время, даже и в XX веке. Эдмунд Уилсон писал в 1926 г., что при объективном взгляде "лишь очень немногое из его поэзии можно будет признать действительно удавшимся, однако нет сомнений, что он первостепенно важный поэт"1.
Парадоксальность таких суждений не лишает их определенной логики. Вот она: По — фигура первого ряда, так как раньше других американских писателей он добился за океаном не только читательской известности; а именно эстетического признания. Благодаря ему существование американской литературыперестало выглядеть проблематичным даже для скептиков. Однако эти заслуги ещё не свидетельствуют о том, что По действительно был крупнейшим художником своего времени. Его европейский успех можно ведь объяснить и просто перепадами интеллектуальной моды, а дальше сказывалась устойчивость уже определившейся репутации новатора. На фоне американских художественных традиций По воспринимается иначе — как явление достаточно им далекое, неорганичное и едва ли не чужеродное.

ЭДГАР АЛЛАН ПО
Портрет работы Сэмюэля Сосгуда. 1844,
"По дома и за границей" опровергала несколько легенд, к тому времени глубоко укоренившихся в критике. Однако она лишь помогла окрепнуть и прежде высказывавшемуся мнению, что для понимания этого феномена европейский духовный и художественный контекст намного важнее и естественнее, чем литературная жизнь Филадельфии или Нью-Йорка середины XIX в. Уилсон утверждал, что истинные соответствия коллизиям, осмысленным По, как и характер его образности, следует искать у Кольриджа, Байрона, а в дальнейшем у Бодлера и французских символистов, но не в американской литературе 30—40-х годов. На ee фоне По слишком необычен: его бескомпромиссное стремление выразить самые сокровенные человеческие переживания приводит к неизбежному. и неразрешимому конфликту с пуританской этической доктриной, еще доминирующей в ту эпоху, его темы кажутся порождением больной фантазии, напоминая то о скептической рефлексии, то об унылом, граничащем с мизантропией байроновском умонастроении, которое в Америке тех лет не могло вызвать сочувственного отклика. Он оставляет впечатление экзальтированности, вызывающей неординарности, радикального несоответствия верованиям и побуждениям своей эпохи (в отзывах современников По это впечатление о нем становится преобладающим), и даже десятилетия спустя у него не находится в Америке ни продолжателей, ни настоящих литературных приверженцев.
Для Уилсона эта отдаленность По от американских традиций и от всей тогдашней интеллектуалъной атмосферы на его родине была — в творческом смысле — благом. Иначе считал Ван Вик Брукс, находивший, что выдающийся талант создателя "Ворона" в полной мере не раскрылся,, так как слишком много сил было израсходовано в борьбе с моральным ригоризмом и противодействии плоским понятиям, владевшим сознанием современников поэта. Дискуссия, завязавшаяся между Уилсоном и Бруксом в 20-е годы XX в., периодически возобновлялась толкователями По и намного ближе к нашему времени. Сама идея отчужденности этого художника от американских корней оставалась, однако, аксиоматичной.
Для нее действительно есть веские аргументы. До сего дня не выяснено, в какой мере По владел иностранными языками, однако его прекрасная осведомленность в европейской культуре того времени никем не может быть оспорена. По знал не только выдающихся английских писателей своей эпохи. Воздействие Кольриджа на его эстетические теории прослеживается без труда, как и воздействие Байрона на раннюю лирику. Однако есть основания говорить и о родственности По Шатобриану, в особенности как автору "Рене". А общность художественных исканий американского новеллиста и поэтики, достигшей своего высшего расцвета у немецких романтиков, прежде всего у Гофмана и Тика, отмечалась еще первыми интерпретаторами его наследия.
Подобные переклички и сближения, нередко опирающиеся на фактологические свидетельства, усиливают позицию литературоведов, настаивающих на том, что и "Ворон", и новеллы из книги "Гротески и арабески" (Tales of the Grotesque and Arabesque, 1840) должны рассматриваться скорее как художественные факты, важные для истории романтизма в его целостности, как подтверждение универсальности идей, создавших романтическое искусство, а не как явления, существенные в контексте истории американской литературы. В ней Эдгару По отводится роль первооткрывателя эстетических концепций, не привившихся на отечественной почве, творца фантасмагорий, иной раз пугавших, но чаще оставлявших равнодушными читателей ричмондских и филадельфийских журналов, — роль одиночки, отмеченного печатью гениальности, но не создавшего ни собственной прижизненной аудитории, ни последующей художественной школы.
Европейская слава По оказалась настолько громкой и непреходящей, что на этом фоне сдержанность, если не откровенная враждебность американских критических комментариев действительно воспринимается как некая аномалия. В 1847 г., когда По, только что переживший самый страшный удар из всех ниспосланных судьбой — смерть Вирджинии, нищенствует, бедствует и оказывается перед угрозой душевного расстройства, несколько его журнальных публикаций попадается на глаза Шарлю Бодлеру, начинающему поэту, который успел на себе испытать силу мещанского лицемерия, изуродовавшего жизнь его американского собрата. Может быть, биографические параллели помогли эффекту немедленного узнавания родственной души, однако скорее тут дала себя почувствовать близость художественных устремлений, теперь ясная каждому, кто сопоставляет первые фрагменты, предназначавшиеся для "Цветов зла", со стихами и рассказами По, созданными в самом конце его пути. Во всяком случае, впечатление было настолько сильным, что Бодлер принялся за перевод, все время преследуемый "смутным и странным ощущением", словно все это когда-то было создано — но не записано — им самим в минуты таинственных озарений. Томик рассказов По, переведенных Бодлером, появляется в 1856 г. И приходит его звездный час.
переросшим в небольшую монографию. Здесь был набросан исключительный по выразительности портрет "человека со сверхъестественными способностями, человека с расшатанными нервами, человека, пылкая и страждущая воля которого бросает вызов всем препятствиям, человека со взглядом, острым, как меч, обращенным на предметы, значимость которых растет по мере того, как он на них смотрит"2. Этот образ, конечно, явился продуктом воображения Бодлера, не больше и не меньше. Однако он надолго, если не навсегда, определил характер преобладающих представлений о По и круг его наиболее пылких французских приверженцев.
Все они были художниками, до той или иной степени связанными с декадансом. В своем творчестве, а часто и в жизненной судьбе они воплотили мучительный перелом, который европейская культура переживала под конец девятнадцатого столетия. Через увлечение По прошли Верлен, Рембо, Малларме, Гюисманс, Вилье де Лиль-Адан, наконец, уже в наш век — Валери, который в связи с разбором "Цветов Зла" дал очень яркую характеристику американского предшественника Бодлера, важнейшего из предшественников.
Оттенки отношения к По менялись, но не слишком значительно. Еще Бодлер возвестил, что "Соединенные Штаты были для него лишь громадной тюрьмой, по которой он метался как существо, рожденное дышать в мире с более чистым воздухом" (2; с. 8). Подразумевалась даже не столько его несовместимость с американской культурой. Скорее имелся в виду выявившийся в Эдгаре По особый тип творческой личности, не находящей в окружающем пошлом мире ни сочувствия, ни внимания к собственным безысходным драмам.
Бодлер размышлял о По, однако из-под его пера выходил обобщенный образ бунтаря и скептика, вечного скитальца, снедаемого презрением к торжествующему убожеству, томимого разочарованием, безверием и неудовлетворенной жаждой, высказать мистически им постигнутые истины, которые могли бы изменить весь ход жизни и порядок вещей в мире. Статья Бодлера написана через несколько лет после катастрофы, какой для него, сражавшегося на парижских баррикадах летом 1848 года, явился переворот Луи Бонапарта, и она насыщена настроениями, заставившими ее автора провозгласить, что современная действительность внушает ему ужас пополам с отвращением. Но контекст, в котором создавался этот очерк, со временем утратил свою узнаваемость. А предложенный на этих страницах набросок остался в сознании нескольких поколений самой яркой характеристикой и личности, и творчества По.
недостоверные сообщения первого биографа По и его душеприказчика, Р. Грисуолда (кстати, Бодлер сразу распознал, сколько сомнительного, если не прямо клеветнического в этом внешне пунктуальном, даже педантичном изложении). Бодлер шел не от фактов, скорее от собственной интуиции. Можно лишь удивляться тому, сколь многое она позволила угадать безошибочно.
Но вместе с тем созданный Бодлером портрет отличался известной пристрастностью. Ее трудно было избежать, и не оттого лишь, что сведения черпались из мемуаров Грисуолда, больше напоминающих пасквиль. Сказались причины, сделавшие это прочтение По очень субъективным. Очерк Бодлера способствовал тому, что американский писатель был канонизирован как предтеча символизма, как художник, предвосхитивший самые глубокие откровения современного искусства: Малларме писал, что По создана новаторская стиховая система, Брюсов находил, что "американский поэт является прямым предшественником и во многом учителем нашего Достоевского"3. Однако оценки Бодлера помогли и упрочению взглядов, под конец века ставших настолько распространенными, что тот же Брюсов мог как о чем-то само собой разумеющемся писать об открытом Эдгаром По "соблазне своего демона извращенности"4, возводя к этому истоку начало декаданса. Эти суждения отзовутся и у А. Блока: "Эдгар По — воплощенный экстаз, "планета без орбиты", в изумрудном сиянии Люцифера, носивший в сердце безмерную остроту и сложность, страдавший глубоко и погибший трагически"5. А на языке расхожей журналистики рубежа веков — французской и русской, так как именно в этих культурах резонанс созданного По оказался наиболее широким, — те же представления выражались словами о "мрачном гении", "патологической фантазии" и т. п.
с плоской обыденностью, и романтическом безоглядном бунтаре, тем большую весомость приобретали наветы Грисуолда, получавшие видимость достоверного свидетельства. Ведь Грисуолд как раз и описывал существо полубезумное при всей своей одаренности, испепеляемое преступными страстями, за которыми скрывается презрение ко всему человеческому роду, дьявольски изобретательное в своих планах глумливой мести ненавистным ему обывателям. Первая добросовестная, основанная на изучении документов биография По, созданная Дж. Ингрэмом, вышла лишь в 1886 г. 6"Людвиг", которую Грисуолд напечатал в день похорон писателя и затем, расширив, предпослал много раз переиздававшемуся четырехтомному собранию новелл и стихов под его редакцией7.
Произведенная Грисуолдом подтасовка со временем была разоблачена, однако это не подорвало доверия к легенде, первоначально изложенной в некрологе, сохранившем имя "Людвига" для истории литературы. Рядовая публика, особенно американская, все так же испытывала шок, читая во вступительной статье к сочинениям По, что этот литератор цинично переступал через моральные устои, отличался безмерным себялюбием, а свой бесспорный дар "развел в алкоголе". Однако последняя метафора принадлежала уже не "Людвигу", но Стефану Малларме, который в знаменитом сонете "Могила Эдгара По" (1876) обратил те же грисуолдовские измышления против толпы, глумящейся над гениальной личностью, и нисколько не позаботился о проверке сообщений душеприказчика реальными обстоятельствами жизни поэта. Горячие защитники По, начиная с Бодлера, фактически оперировали теми же мнимостями, что и очернители его памяти: менялся знак, тон, пафос, однако эта перемена вряд ли приближала к истине об Эдгаре По. И если для "Людвига" его судьба была примером саморазрушения, которым приходится оплачивать отступничество от добродетели, то для Бодлера она стала поводом, чтобы обратить свои филиппики против "стада продавцов и покупателей", этого "безымянного чудовища", этих плебеев, готовых раздавить любую индивидуальность "в угоду своей подлой душонке или своей добродетели (не все ли равно)..." (2; с. 56).
Контекст мог быть панегирическим или клеветническим, но и в том, и в другом случае властвовали домыслы. Реальная биография По была установлена только в XX веке. И тогда появились предпосылки для объективного осмысления его творческого пути.
2
Еще в 20-е годы нынешнего века Уилсон был вынужден оперировать не фактологическими доказательствами, а отвлеченными эстетическими критериями, доказывая, что наследственный алкоголик, дегенерат и аморалист, каким изображала По тогдашняя критика, не мог бы написать ни "Лигейи", ни "Ворона". Вошедший в моду психоанализ отозвался на страницах многих тогдашних книг, среди которых особенно нашумела монография Мари Бонапарт, в австрийском издании (1934) снабженная предисловием самого З. Фрейда8 американскими фрейдистами, прежде всего Дж. Крутчем. В работе, оспариваемой Уилсоном, Крутч писал, что основная эмоциональная тональность новелл По граничит с откровенным садизмом, выдавая какую-то эмоциональную травму, связанную с моральной репрессивностью эпохи. А отношения По и Вирджинии у Крутча рассматривались как законченный образец инцестуально-го влечения, не осуществившегося в силу физической ущербности партнера, однако оставившего обильные следы в созданном воображением поэта9.
Отзвуки таких концепций еще и сегодня распознаются в литературе об Эдгаре По. Однако их авторитетность очень заметно ослабела с выходом в свет в 1941 г. фундаментальной работы А. Г. Куинна, которая до настоящего времени остается канонической биографией, лишь в частностях дополненной позднейшими разысканиями10. Перед читателем этой объемистой книги предстал совсем не тот По, которого возносили одни и стремились дискредитировать другие, апеллируя к сложившимся мнениям, но не пытаясь восстановить события жизни художника в реальной взаимосвязи. Меж тем правда оказалась драматически захватывающей, в каком-то отношении еще более горькой, чем все те фикции, которые создавало воображение как апологетов По, так и его хулителей.
Выражая взгляды едва ли не всех европейских ценителей дарования По, Бернард Шоу с недоумением вопрошал: "Каким образом мог явиться в Америке этот тончайший из художников, истинный аристократ литературы?" И делал поспешный вывод: "Он там не жил, он там умер" (7; с. 21). Вероятно, Шоу не знал, что По происходил из семьи странствующих актеров, или не придал этому обстоятельству надлежащего значения. Однако оно существенно, хотя и не в том смысле, что будущего поэта с младенчества окружала художественная среда. Отец его таинственным образом исчез, когда ребенку был год с небольшим, а в три года он потерял и мать, унесенную чахоткой. Но через две недели после ее смерти произошло событие, которое было бы совершенно уместно в какой-нибудь из мистических "страшных" новелл По: рич-мондский театр, где она блистала, во время представления загорелся от упавшей на занавес свечи, погибло семьдесят три человека — в тот вечер зал был переполнен. О пожаре говорили много лет. Для По, вероятно, это было одно из самых ранних соприкосновений с изощренной жестокостью жизни.
Оставшись сиротой, По был взят на воспитание в семью оптового торговца табаком Джона Аллана, человека скорее расчетливого, чем добросердечного. К приемышу он год от года относился все недоверчивее и настороженнее, из не слишком заботливого опекуна превратившись под старость в гонителя.
— это закрытые лондонские пансионы (у Аллана были дела в Англии, и семья прожила там пять лет), холодные чуланчики, превращенные в дортуары, зубрежка, педанты-наставники. В новелле "Вильям Вильсон" По описал и окружавшую школьный участок высокую каменную стену, утыканную битым стеклом, и массивные ворота с приваренными железными шипами, и воскресные прогулки колонной к соседней церкви и обратно. Колдовство воображения помогло ему открыть в этих скучных воспоминаниях "бездну чувств, целый мир многообразных событий, целую вселенную различных эмоций". Однако в действительности его детство было безрадостным. Оно оказалось достойным прологом ко всему дальнейшему.
Юность началась очень рано, чуть не сразу по возвращении в Америку летом 1821 г., и началась она кружением сердца. Несколько ранних стихотворений По обращены к Елене. Так он называл Джейн Стенард, мать своего ричмондского одноклассника. Он боготворил эту женщину, поражавшую классической строгостью черт лица, грациозностью и редкой в те времена начитанностью. Мало кто знал о трагедии, которая разыгрывалась в ее доме. Миссис Стенард страдала душевным расстройством. Она умерла в апреле 1824 г., тридцати лет отроду.
Вскоре По выпало пережить еще одно потрясение. Он тайно обручился с Сарой Эльмирой Ройстер, дочерью одного из компаньонов Аллана. Жениху шел семнадцатый год, невесте не исполнилось и четырнадцати. О помолвке узнали ее родители: была перехвачена любовная записка, разразился семейный скандал. Аллан дал понять, чтобы от него не ждали благосклонности. Юному влюбленному предпочли солидного стряпчего.
Эта история тяжело отразилась на отношениях По с его опекуном. Аллан наотрез отказался платить долги, которые По наделал в Виргинском университете. Пришлось оставить студенческую скамью. Тайком По издал свою первую книгу, крохотный сборник "Тамерлан и другие стихотворения" {Tamerlane, and Other Poems, 1827). Образ Эльмиры витал над этими страницами, выдававшими следы восторженного чтения Байрона, создателя "восточных" поэм. Книжка не принесла ни признания, ни денег. Положение становилось безвыходным. Спасла армия. По записался волонтером и, чтобы скрыться от кредиторов, сменил имя, — в полку его знали как Эдгара А. Перри.
Он прослужил два года и еще год провел в американской военной академии Вест-Пойнт. Время для него выдалось сравнительно благополучное. Мистифицируя биографов, По годы спустя сотворил легенду о своем бегстве в Европу с намерением добраться до Греции и, как Байрон, отдать жизнь за ее свободу. Он будто бы долго скитался из одной столицы в другую, добравшись до Петербурга, откуда ему с трудом удалось вернуться домой при содействии американского консула. Все это чистой воды выдумка, хотя и убедившая многих, особенно в России. Грисуолд изложил историю по-своему, но не отрицая факта петербургской одиссеи поэта: на беду, в русской столице с ним случился очередной загул, и дипломатам пришлось вызволять его из неприятностей. В дальнейшем выдумка долго выглядела убедительнее, чем опровергающие ее факты, и русская периодика прошлого века (а в наше время В. Катаев устами героя своего романа "Время, вперед!") описывала невероятные приключения По в Северной Пальмире, вплоть до разговоров с Пушкиным в одном из петербургских трактиров.
11. А начинающему поэту вместо подвигов достались томительные армейские будни. Батарея, к которой он был приписан, стояла на острове Сэлливен у берегов Южной Каролины, потом в Виргинии. Своей живописностью и безлюдьем эти места пробуждали романтическую фантазию. Они оживут в "Золотом жуке" и "Повести Скалистых гор".
Новой поэме, которую он в ту пору писал, было дано заглавие "Аль Аарааф", она стала центром второго сборника (Al Aaraaf, and Other Poems, 1829). Согласно Корану, Аль Аарааф — преддверие рая. Свой нимб По расположил на таинственной звезде, открытой в XVI веке Тихо Браге и затем угасшей. Быть может, ему казалось, что к этому мистическому нимбу приблизилась его собственная душа.
Но если и так, иллюзия недолго держала По в своем плену. Из Вест-Пойнта его изгнали за нарушение дисциплины. Сокурсники, ценившие его эпиграммы и экспромты, собрали деньги, на которые По смог издать книгу, объединившую все самое значительное из им созданного — "Стихотворения" {Poems, 1831); дарители, не увидев в ней ни сатир, ни куплетов, оставили ее без внимания. Аллан, похоронивший супругу и женившийся снова, совершенно остыл к своему воспитаннику, фактически прекратив ему помогать. Несколько лет в биографии По остаются темным пятном, несмотря на все усилия литературоведов. Известны его письма опекуну, переполненные отчаянием, горькими упреками, уверениями, что байронизм им преодолен окончательно, и т. п. — Аллана ничто не могло смягчить. Важнейшее событие этой поры произошло в августе 1829 г.: в балтиморском доме Марии Клемм, своей тетки по отцу, он впервые увидел ее дочь Вирджинию. Кузине было семь лет. По сделал ее поверенной всех своих тайн, и она носила записочки даме, за которой он тогда ухаживал.
От стихов он перешел к прозе, сочинял рассказы. В 1833 г. "Рукопись, найденная в бутылке" выиграла конкурс, проводимый журналом "Сатердей визитор". Одновременно устраивался и поэтический конкурс, на который было послано стихотворение "Колизей", явно превосходившее сочинения соперников, однако после дебатов решили отметить не стихотворца, а прозаика. Балтиморское жюри, конечно, не подозревало, что дискуссию о том, отдать ли предпочтение новеллам перед стихами, или наоборот, будут возобновлять много раз, когда имя По обретет мировую известность.

Рисунок А. Г. Лирнеда.
в силу необходимости заполнить материалом выпускаемые им ежемесячники и альманахи, тогда как поэзия оставалась областью вдохновения.
В действительности лучшее из созданного По в прозе точно так же рождено вдохновением, как его самые прославленные стихи, однако многое и вправду приходилось сочинять лихорадочно, наспех — ради денег. Аллан умер в марте 1834 г., не оставив По в завещании ни цента. Входивший в состав балтиморского жюри Джон Пендльтон Кеннеди помог в 1835 г. свести знакомство с Т. У. Уайтом, издателем "Сазерн литерери мессенджер". Началась редакторская карьера По — шумная и блестящая. Руководимые им издания в мгновенье ока поднимали тираж, а собственные его дела шли на поправку, но всякий раз все кончалось скандалами, разрывами и очередным безденежьем.
Среди изданий, которые редактировал По, наиболее значительным был "Грэмз мэгезин", где он служил с июля 1839 г. При нем тираж журнала вырос едва ли не втрое, появился серьезно поставленный критический отдел, а публикации по отделу беллетристики, и прежде всего произведения самого редактора, явно превосходили обычный уровень периодики тех лет. Хотя владелец журнала Джордж Грэм фактически не вмешивался в дела, мечта о собственном издании не оставляла По, писавшего в этой связи Куперу, Готорну, Брайанту, — ему хотелось привлечь лучшие перья страны. В октябре 1845 г. По даже удалось приобрести пришедший в упадок "Бродвей джорнэл", где он тогда печатался, и давний замысел, кажется, был близок к осуществлению. Однако уже через три месяца пришлось объявить о прекращении издания ввиду отсутствия средств.
"Сан" известила о необыкновенном перелете на воздушном шаре через Атлантику и начала из номера в номер печатать "Историю с воздушным шаром", выдавая фантазию за истинное происшествие, перед редакцией стояла толпа, нетерпеливо ожидавшая очередного выпуска, — о мистификации и не догадывались. Тем не менее единственное сравнительно полное собрание новелл "Гротески и арабески" расходилось туго и не было повторено. И оставалось править чужие безграмотные рукописи да сочинять трактат о раковинах, коммерчески более удачливый, чем любые "гротески".
Меж тем в литературных кругах репутация По к концу 30-х годов была высокой. Но обстоятельства оставались тягостными. И особенно они усугубились после женитьбы. С трудом нашелся свидетель, под присягой подтвердивший совершеннолетие невесты, которой не исполнилось и четырнадцати лет. Нищета преследовала неотступно, а к ней добавились заботы, причиняемые хрупким здоровьем Вирджинии и некоторыми рано выявившимися странностями ее характера.
Сохранилось свидетельство очевидца, относящееся к первому лету после свадьбы, почти тайно отпразднованной в мае 1836 г. Торопясь закончить рассказ, которого уже ждут в типографии, По сидит над рукописью за столом, заваленным бумагами и гранками, а в саду Розалия, его слабоумная сестра, и Вирджиния, жена-подросток, прыгают через веревочку и взлетают вверх-вниз на качелях12. Прямолинейно фрейдистские толкования и биографии По, и его творчества основываются на уверенности, что его союз с Вирджинией не был браком в прямом и точном значении слова. Так считали едва ли не все современники, оставившие воспоминания о жизни четы По в Филадельфии, а затем в Нью-Йорке.
Девочка, которую По обессмертил в стихах, украшающих антологии романтической лирики — хрупкая, болезненная, схожая с сильфидой, — умерла от чахотки весной 1847 г. И в новеллах, и в стихотворениях По ее образ возникает неоднократно, хотя наивны старания отождествить с Вирджинией героинь "Мореллы" и "Лигейи" или отнести впрямую к ней лирический сюжет "Ворона", написанного за два года до ее кончины. Можно лишь выделить мотив, несомненно, обладавший для По автобиографическим смыслом: угасающая женщина, которая состоит в родстве со своим возлюбленным и оттого обречена терпеть страдания и травлю, вступая в безнадежную схватку с судьбой. Эта женщина предстает чистым воплощением нематериальной субстанции, она — как бы сама душа, случайно обретающаяся в гуще унылого будничного распорядка и сталкивающаяся с убийственными установлениями, непереносимым ригоризмом, ненавистью ко всему неординарному. Ее гибель неотвратима, и эта трагедия пережита героем, авторским alter ego, как самое неоспоримое свидетельство извечной несправедливости, которая уготована истинной красоте, любви, таланту: все прекрасное в мире — обречено.
— из них возникает образ человека, лихорадочно сжигающего себя, отчаянно цепляющегося за призрачные надежды и воюющего против всего мира с предельным ожесточением, которое предвещает скорый и трагический финал.
Не следует, однако, считать этот образ совершенно'достоверным. Еще с юности Эдгару По сопутствовала репутация бунтаря, готового и даже стремящегося переступить через любые нормы и каноны во имя своего великого предназначения и бросающего толпе вызов осознанной — возвышенной, мессианской — порочностью этики, поступков, поведения. Эта репутация, конечно, не могла возникнуть на пустом месте. По был романтиком не только в творчестве, он и как личность воплощал в себе характерные черты романтического сознания.
Для такого сознания в той или иной форме неизбежен конфликт высоких духовных устремлений и невзрачной прозы повседневного бытия, как неизбежно и прямое столкновение с общепринятыми моральными заповедями и принципами. Они всегда оказываются слишком убоги, стеснительны для романтической натуры, бунтующей и требующей для себя абсолютной свободы. Тем не менее они обязательно заявляют свою власть, порождая в душе романтика бурю противоречий, коллизии мучительные и накаленные, но чаще всего завершающиеся вынужденными уступками презираемой "норме".
Современников удивляло, как мог По, едва напечатав "Улялюм", стихи, заполненные болью и тоской по умершей возлюбленной, умолять другую женщину занять ее место, — этой женщиной была Эльмира Ройстер, ныне вдова Шелтон, согласившаяся на брак, который, впрочем, так и не был заключен. Шокирующим выглядело и увлечение По бесталанной поэтессой Сарой Уитмен, неуместной казалась ликующая мелодия начальных строф "Колоколов", ворвавшаяся в "царство вздохов", когда поэту оставалось жить всего несколько месяцев. Сказывалась власть легенды, сотворенной По о самом себе. В нем видели байронического героя, преисполненного презрения к окружающему, не считающегося с обязательными этическими установлениями и готового легко переступить даже через собственные, еще недавно безусловные принципы, так как им овладел импульс, каприз, спонтанно пробудившаяся страсть.
Убедительности этой легенды способствовала покоряющая достоверность, с какой По в автобиографическом наброске рассказал о своих скитаниях по Европе, а на страницах "Повести о приключениях Артура Гордона Пима" (ТЪе Narrative of Arthur Gordon Рут, 1838) описал плавания в южных морях, хотя после путешествия ребенком в Англию и обратно ни разу не покидал родных берегов. Романтики часто были склонны отождествлять вымысел с правдой. Родившийся в воображении образ, которому присущ оттенок исключительности и даже демонизма, прирастал к ним, заставляя их самих в него уверовать: возвышающий обман и в самом деле был выше тьмы низких истин.
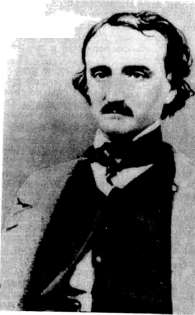
Дагерротип. 1848.
Драма последних лет жизни во многом и предопределялась несовпадением маски и сущности. Была логика поведения, навязываемая созданной Эдгаром По легендой о себе как личности, над которой не имеет власти все "человеческое, слишком человеческое", — Ницше, кстати, прямо его упоминает, рассуждая о "великих поэтах" как "людях минуты, экзальтированных, чувственных, ребячливых, легкомысленных и взбалмошных в недоверии и в доверии"13. И в согласии с этой логикой По — скорее всего намеренно — совершал поступки, лишь из деликатности именовавшиеся излишествами в переписке тех, кто его любил, тогда как на самом деле происходило стремительное саморазрушение, которому сильнее всего остального способствовал усвоенный им демонизм и все так же его притягивавшая позиция бунтаря против окружающего убожества. Однако была и самая обычная житейская неустроенность, боль все углублявшегося одиночества, быстрое физическое угасание. Несколько отчаянных попыток остановить уже занесенную руку судьбы — расстроившееся сватовство, неудача с философским трактатом "Eureka" (Эврика, 1848), который должен был предложить не меньше как опыт новой космогонии, — лишь приблизили никого не удивившую развязку. Последним шансом для По выкарабкаться из беспросветной нужды были публичные чтения, к которым он приступил с сентября 1849 г. в Ричмонде. До сего времени не выяснено, что заставило его через месяц прервать этот цикл, отправившись в Нью-Йорк через Балтимор. Его подобрали без сознания на улице и доставили в больницу, где он умер три дня спустя.
Впоследствии, как бы наперекор инсинуациям Грисуолда, укрепилось представление об идеалисте, загубленном грубой прозаичностью своей эпохи, о мечтателе, вынужденном обитать среди филистеров и плоских утилитаристов и рядом с ними похожем на пришельца из иных миров. Этот образ По сделался самым распространенным, стимулируя целую серию биографических романов, сводящихся к схематичному тезису о великом поэте, которого не могло и не хотело принять его окружение, состоявшее из ничтожеств.
— и столь типичную для романтической эпохи — фигуру А. Блок. Он вспомнил о По в своих размышлениях о "дэндизме", затеплившемся от бай-роновской искры и опалившем "крылья крылатых". Здесь был "великий соблазн — соблазн "антимещанства"; да, оно попалило кое-что на пустошах "филантропии", "прогрессивности", "гуманности" и "полезностей"; но, попалив кое-что там, оно перекинулось за недозволенную черту"14.
К Эдгару По последнее замечание применимо в значительно меньшей степени, чем, например, к названному рядом Уайльду. Да и в целом статья Блока "Русские дэнди" толкует о явлении, которое могло притязать лишь на отдаленное сходство с мирочув-ствованием, воплотившимся в творчестве американского писателя. И все же Блок уловил черту, существенную для верного постижения той духовной настроенности, которая вызвала к жизни яркую личность По, и той судьбы, которая ему была уготована.
Истина требует, однако, добавить, что в тогдашних американских условиях, в пуритански ригористичной и гнетуще меркантильной среде, окружавшей поэта, сам этот романтический "соблазн" приобрел характер действительно радикального вызова, оборачиваясь драмой, неподдельной и глубокой.
3
Как журналист и издатель По откликался на многие примечательные литературные явления своего времени, и в итоге составилось несколько объемистых томов, которые заполнены критическими отзывами, заметками, а также пространными эссе, объясняющими его собственные художественные принципы. Эстетическая саморефлексия особенно привлекала у Эдгара По его французских приверженцев. Малларме восхищался строгой аналитичностью, присущей творчеству По и резко его отделяющей от несостоятельной, на взгляд французского поэта, романтической веры в спонтанную гениальность, неконтролируемое вдохновение и т. п. Валери в статье о "Цветах Зла" пространно излагает основные идеи американского предшественника, касающиеся сущности поэтического творчества и характера творческого акта, называя эти мысли "главным двигателем изменения идей и искусства Бодлера"15
Возможно, он несколько преувеличивал их значение, однако не приходится сомневаться в том, что собственная эстетическая концепция у Эдгара По действительно была и что ей присуще большое своеобразие. Валери определил эту оригинальность как соединение "некой математики и некой мистики", составляющее сущность доктрины По, которая преследует задачу выявить "естество" поэзии, чтобы "изучить его, так сказать, в чистом виде" (15; с. 448). С точки зрения Валери, предложенная По концепция исключительно важна тем, что выводит за сферу поэтического "все высказывания, для которых достаточным проводником могла бы служить проза", воздвигает прочный барьер, разделяющий поэзию, с одной стороны, историю, науку и мораль — с другой, отвергает "ересь дидактизма" и культу стихийности противопоставляет идею выношенного, осознанного мастерства.
Пафос аналитичности и математически точного расчета, который помогает добиться необходимых художественных эффектов, был утвержден в эссе "Поэтический принцип" (1848, опубл. 1850), действительно программном для американского писателя. Ясно, в силу каких причин именно эти стороны его эстетической доктрины привлекли к себе такое внимание французских восприемников. Бодлер и поэты его ориентации решительно отвергли "декламирующую личность", ценя в поэтическом искусстве совсем другое: не патетику, а выверенность художественных ходов, не пышность, а строгое единство образного ряда, магию, соединяемую с алгеброй. В этом смысле По на самом деле был их предтечей и не случайно оценивался ими как антагонист романтизма, каким его в дальнейшем считал и Брюсов. Следуя высказыванию Валери о Бодлере, которое можно распространить и на эту интерпретацию Эдгара По, он, в сущности, был классиком, т. е. приверженцем "интеллектуальных наслаждений без примесей", хотя и "романтиком по вкусам".
Но такое толкование эстетических взглядов По никак нельзя назвать всеобъемлющим. Оно, скорее, предопределено особенностями и потребностями воспринимающей его идеи французской поэтической культуры, а впоследствии — эстетикой символизма, переосмыслившей многие положения романтической теории искусства. В контексте американской литературы 30—40-х годов XIX в. эстетика По выступает как характерное явление романтизма. Она во многом и сформировалась под воздействием уже заявивших о себе романтических художественных идей, которые начинающий По достаточно полно освоил и отчасти перенял, — прежде всего идей Кольриджа.
Непосредственно к эстетике Кольриджа, хотя и осмысленной полемически, восходит фундаментально важное для По истолкование фантазии как способности находить новые соединения привычных элементов, и воображения, открывающего художнику мир красоты, который включает в себя и возвышенное. Кольридж хотя бы отчасти подсказал и отстаиваемый По принцип единства, или же "тотальности", художественного эффекта произведения и такой композиции (По предпочитал слово "plot", которое можно передать как "лирический сюжет"), когда "нельзя переставить абсолютно ничего, тем самым не разрушив всей постройки". Наконец, и восхищавшая Малларме идея "вдохновенной математики", какой надлежит быть поэзии, могла быть почерпнута из "Biographia Literaria" (Литературной биографии), где в этой связи сказано: "Поэзия самых возвышенно-гармоничных, равно как и самых страстно-беспорядочных од заключает в себе определенную логику, не менее строгую, чем логика науки; ее труднее постичь, ибо она менее заметна, сложна и зависима от множества неуловимых, мимолетных причин"16.
— впоследствии он признавал это и сам, в то же время решительно и справедливо отвергая обвинения в плагиате, адресуемые ему критиками, усмотревшими слишком близкое сходство "Ворона" со "Сказанием о старом Мореходе". Насколько хорошо знал По теоретические работы Шлегелей, остается предметом гаданий, но, если он и не читал эти сочинения в оригинале, основные мысли, изложенные в них, ко времени его литературного дебюта приобрели такую известность, что неведение со стороны По исключается. Отзвуки идей, защищавшихся А. Шлегелем, достаточно часты уже и у начинающего По — журналиста и рецензента.
Он быстро снискал себе прозвище "критика с томагавком", которым был обязан нескольким своим разгромным статьям. Имена литераторов, ставших его жертвами, теперь забыты, однако примечателен сам характер претензий По к их беллетристике в исторических декорациях или стихотворным эпическим картинам, выполненным с оглядкой на классицистскую нормативность. По жестоко высмеивает ходульность сюжетных ходов, противоестественность изображаемых психологических состояний, страсть к надрывным кульминациям, блеклость и неубедительность композиции, — словом, литературность, не имеющую ничего общего с художественной правдой, как она им понималась. В представлении По, правда неотделима от красоты. Настоящее искусство — это "красота, создаваемая единством, тотальностью, истиной"17.
Все эти понятия обладают в его словаре особой семантикой. Единство подразумевает безукоризненную согласованность всех элементов произведения, его "стиль", "тон", то, что всего точнее было бы назвать гармоничным художественным решением. По был убежден, что даже незначительные, однако стилистически чужеродные элементы — ритмические нарушения в стихах, если это следствие недосмотра или неумелости, чрезмерное пристрастие к однотипным приемам в прозе — разрушают целостность впечатления, а ею и определяется значительность, состоятельность, объективная ценность произведений. Важна интенсивность и однородность психологического воздействия на читателя — это и называется на языке По "тотальностью" как необходимым предусловием эстетического свершения. Художественная истина предполагает присутствие красоты, причем это должно быть не повторение уже'известных сочетаний, а что-то отмеченное неоспоримой новизной: сущность поэзии, которая в этом контексте выступает как синоним искусства, снова и снова характеризуется словами "оригинальность", "изобретение", "воображение", пока не будет найдена знаменитая формула: "созидание красоты посредством ритма"!8.
Формула появляется в эссе "Поэтический принцип", на исходе жизненного и творческого пути, однако, в сущности, аналогичные идеи обнаруживаются и на страницах критических статей, написанных полутора десятилетиями ранее. Оппоненты, которые нашлись у По сразу же, как только он обратился к критике, обвиняли его в пристрастности, преувеличенном внимании, которое уделяется стилистическим достоинствам или промахам рецензируемого автора, наконец, в германофильстве — имелась в виду близость выдвинутых им критериев эстетике немецкого романтизма. Все эти выпады По было не так просто парировать, ведь они опираются на определенную аргументацию. Как критик он действительно бывал пристрастен, — например, к Ирвингу, которого хвалил только за наспех написанную "Асторию", словно не заметив несравненно более значительной "Альгамбры", и к Куперу, остававшемуся, в его глазах, всего лишь умелым сочинителем легковесной беллетристики, в которой он первый мастер. Впрочем, По бывал пристрастен и в пренебрежительных, и в комплиментарных отзывах, которыми он удостаивал произведения соотечественников. Вряд ли для него оставалось тайной истинное художественное качество романа Кеннеди "Робинсон-Подкова" или сочинений Кэтрин М. Седжуик, однако он их поддержал, видимо, стараясь, поднять престиж отечественной литературы. Как и другие писатели того времени, По размышлял о культурной независимости, которую предстояло завоевать Америке, хотя, касаясь этой темы, удерживался от патетики, водившей пером Эмерсона и Мелвилла.
Имели некоторое основание и упреки в том, что для По эстетическое совершенство самоценно. Уже при жизни его не раз обвиняли в эстетизме, а затем такого рода выпады в его адрес стали самыми распространенными. Через столетие с лишним после смерти По Ричард Уилбер доказывал, что для него никогда не был особенно важным "смысл" стихотворений, так как настоящую значимость представлял лишь их "эффект". Собственное поэтическое творчество он воспринимал как разновидность магического заклинания, месмерических внушений — недаром вся эта область так его интересовала, когда он обращался к прозе. Отсюда Уилбер делает вывод, что прорыв к высшей красоте, который По считал истинным призванием искусства, осуществлялся у него при помощи активизации полуосознанных или бессознательных путей восприятия. Это достигалось за счет особенно изощренной эвфонии, тщательно продуманных модуляций ритма, интонационных ударений, т. е. за счет виртуозной техники стиха. Естественно, что и в критических разборах По уделял непропорционально большое внимание этой стороне дела19.
"Улялюм" и "Колокола", хотя придал слишком обобщенный смысл своим наблюдениям. Современники По судили о тех же чертах его художественного и критического дарования намного более прямолинейно. Для них По представлял уже оформившееся нездоровое явление, которое впоследствии будет названо формализмом. Повод для таких нападок дали прежде всего его выступления против Лонгфелло, который стремительно завоевывал реноме национального классика. В глазах По, это был всего лишь робкий ученик Теннисона, если не хуже — плагиатор, присвоивший себе чужие лавры. Мало того, Лонгфелло насадил на американском Парнасе собственную клику, которая и позаботилась о том, чтобы создать ему имя бесспорно самого выдающегося стихотворца. Лонгфелло, в интерпретации По, непозволительно смешивает поэзию и драму, создавая нежизнеспособный симбиоз в своем "Испанском студенте". С Лонгфелло в американскую поэзию проникает дух раболепия перед британской музой и, хуже того — та "ересь дидактизма", которой По смолоду объявил беспощадную войну20.
В его неприязни к Лонгфелло подозревали что-то маниакальное, и действительно, отношения двух поэтов приняли невозможный характер, вплоть до взаимных обвинений в литературном воровстве. Однако антагонизм объяснялся прежде всего слишком глубоким несходством их эстетических взглядов и занятой ими литературной позиции. Правда, задумывая собственный журнал, По предполагал и участие в нем Лонгфелло как очень представительной фигуры. Тем не менее творческие принципы этого поэта остались для него неприемлемыми.
Отличаясь явной тенденциозностью, обличительные разборы По многое говорили о его собственных художественных убеждениях. Лонгфелло для него воплощал дух морализаторства, несовместимый с искусством, — по той же причине им будут отвергнуты стихи Эмерсона, а затем Уиттьера. У Лонгфелло он не находил "дразнящей неопределенности смысла ради создания определенно смутного, а следовательно, потустороннего эффекта" (18; с. 156), а в заметке о Теннисоне умение добиться такого эффекта названо приметой поэтического гения. Наконец, По возмущала небрежность в отделке стихотворений, однообразие, неизобретательность. Все это, на его взгляд, делало смехотворными разговоры о гении Лонгфелло.
До фельетонов и пародий дело не дошло, если не считать крайне резкого отзыва По о составленной Лонгфелло антологии "Находка" (1844). Но до конца сохранился непримиримый тон отзывов о поэте, "из всех американцев отмеченном самым несомненным талантом, который губит пристрастие к подражанию". В этой непримиримости была своя логика: споря с Лонгфелло, По формулировал существенно иной взгляд на искусство. Складывалась эстетика, действительно не сводимая к романтической концепции, как ее представляли себе читатели "Ночных мыслей" и "Евангелины".
Эту новую эстетику имели в виду, называя По пропагандистом немецких учений, плохо прививающихся за океаном. Еще при жизни По возникло и окрепло сомнение в том, что созданное им отмечено национальной характерностью, и в дальнейшем очень часто его наследие называли чужеродным американской художественной традиции. Основания для такой трактовки предоставила прежде всего та доктрина, которую По изложил в своих программных статьях, касающихся сущности и назначения поэзии: "Философия творчества" ("Philosophy of Composition", 1846) и "Поэтический принцип". В Европе они произвели намного более глубокое впечатление, чем на родине автора. Известен, например, отзыв Мориса Равеля: "Самое тонкое истолкование сути творческого акта, во всяком случае, оказавшее наибольшее воздействие на меня самого, я нашел в эссе По, объясняющего, как он написал свое знаменитое стихотворение"21 его взглядов в Америке не сумели оценить вплоть до XX в.
В действительности же точки соприкосновения с эстетикой немецкого романтизма в его критических статьях и эссе, представлявших собой разновидность автокомментария, не так уж многочисленны. К концепции А. Шлегеля, утверждавшего, что о поэзии необходимо судить прежде всего как о созидании прекрасного, а лишь затем оценивать ее интеллектуальное, нравственное и любое иное внеэстетическое значение, может быть возведена дефиниция, предложенная По: "созидание прекрасного посредством ритма". Однако эта мысль развита им до гораздо более радикальных выводов: "Ее взаимоотношения с интеллектом и совестью, — пишет он, — имеют лишь второстепенное значение. С долгом или истиной она соприкасается лишь случайно" (18; с 139).
Вырванный из контекста, этот абзац предоставлял аргументы критикам, обвинявшим По в пренебрежении духовной и этической природой искусства. На самом деле он направлен не против интеллектуальной насыщенности художественного текста, как и не против его моральной значительности, а против подмены искусства чистым умозрением. В той же статье "Поэтический принцип" признается, что стихотворение может содержать "предписания долга" и "уроки истины", однако ни то, ни другое не должно составлять основной цели поэзии: "Истинный художник всегда сумеет приглушить их и сделать подчиненными тому прекрасному, что образует атмосферу стихов" (18; с. 139). И о том же самом По говорит в своих критических отзывах, поводом для которых послужили "Лавка древностей" Диккенса — с ним По встречался в Филадельфии весной 1842 г., — а также "Ундина" де ля Мотт Фуке: нравственное содержание должно быть выражено в произведении имплицитно, недопустимо пренебрегать принципами художественного единства и тотальности ради откровенной проповеди, а утилитарный подход к искусству губителен для него.
Полемический адрес таких высказываний несложно установить: объектом полемики был прежде всего Эмерсон, односторонне, хотя и небеспочвенно истолкованный как адепт утилитарно осознаваемой полезности искусства. Французские продолжатели, начиная с Бодлера, постоянными отсылками к По стремились подкрепить суждения в том роде, что у поэзии нет цели вне ее самой, хотя эта мысль, разумеется, исходно не принадлежит американскому писателю. Она высказывалась независимо от него художниками, творчески очень от него далекими, например, Пушкиным, писавшим Жуковскому в связи со своей поэмой: "Ты спрашиваешь, какая цель у "Цыганов"? вот на! Цель поэзии — поэзия — как говорит Дельвиг (если не украл этого). Думы Рылеева и целят, а все невпопад"22.
"невпопад" целили патетические стихи того же Лонгфелло с обличениями рабства, — они раз за разом оказывались не в ладу с требованиями эстетической гармонии и с художественностью, подмененной декларациями пламенного либерализма. Полемика не обходилась без крайностей и передержек. Но в статьях По говорилось не о том, что художник свободен от каких бы то ни было обязательств перед действительностью. Говорилось лишь о том, что он должен остаться художником, а не сделаться проповедником с умением рифмовать.
так что уже нет нужды доказывать мысль рассудочными выкладками. Аффектация, на взгляд По, столь же пагубна для самого глубокого творческого замысла, как неспособность воплотить его в категориях неподдельно эстетического характера. Выпады По против Эмерсона и Уиттьера не должны шокировать своей непримиримостью и желчностью: он защищал не идею бесстрастного формального совершенства, а главное в самой поэзии, как он ее себе представлял, — способность проникнуть за горизонт логического мышления, обретаемую лишь при условии, что создание искусства безупречно.
Тогда в произведении появляется элемент прекрасного, осознаваемого как высшая истина, и оно приобретает оттенок идеальности. Истину По, как прежде А. Шлегель, истолковывал в первую очередь в эстетических категориях, обосновывая необходимость недоговоренности, суггестивности, загадочности, которая должна отличать действительно выдающееся свершение искусства. Впоследствии символизм придаст этой категории фундаментальное философское значение, но для По, первым ее разработавшего, суггестивность — прежде всего качество действительно безукоризненной композиции и такое же убедительное свидетельство гениальности, как дар изобретения, которое предполагает новизну сочетаний известных элементов, и тотальность психологического воздействия, оказываемого произведением.
Сочетание этих трех важнейших компонентов, согласно По, должно отличать искусство в его высших проявлениях. Он находил несостоятельной "мысль о несовместимости гения с мастерством" и верил, что не менее чем на две трети стихосложение принадлежит к области математики. Однако прикосновение к высшей красоте, о котором неоднократно он говорит как об истинном деле поэта, в этой системе идей всегда выступает мистическим актом, когда все решается интуицией, а не логикой движения к намеченной цели, и "словесное воплощение... неуловимых грез" (18; с. 163) оказывается доступным лишь тем, кто наделен воистину дерзким воображением. Странный симбиоз, при котором точность расчета оказывается для поэта такой же необходимостью, как смелость озарения, уже не считающегося с математикой, — такой была эстетическая концепция По, не принятая да едва ли и понятая современниками, но оказавшая на редкость плодотворное воздействие на искусство по мере движения поэзии к символизму и постсимволистскому периоду. Даже очевидная противоречивость этого толкования, настаивающего на соприсутствии разнородных начал, без чего невозможно настоящее творческое совершение, не тормозила, а напротив, стимулировала поэтические искания, увенчавшиеся переворотом, начало которому положили "Цветы Зла".
4
Как критик По нередко иллюстрировал свои выводы примерами из собственной лирики. "Философия творчества" объясняет, как было создано знаменитое стихотворение "Ворон". Это делается с редкой логичностью и убедительностью, недаром эссе По так восхитило Равеля. Он не заподозрил здесь мистификации, как позднейшие толкователи, поверив, что и вправду стихи складывались "ступень за ступенью... с точностью и жесткой последовательностью, с какой решают математические задачи" (18; с. 112).

ПОРТРЕТ ВИРДЖИНИИ
Весь лирический сюжет был продуман до самого конца, прежде чем была найдена первая строка.
Был точно определен и строго выдержан объем, так как По придавал количеству строф особое значение, отказывая в праве на существование большим поэмам, в которых, как ему казалось, невозможно добиться единства и интенсивности впечатления. Затем была создана фабульная канва: улетевший от хозяина ворон среди ночи пытается проникнуть в окно, где горит свет, — и придуманы правдоподобные обстоятельства: хозяина этой комнаты гнетут мысли о недавно умершей возлюбленной, явление ворона среди ночи приобретает для него провиденциальный смысл, тем более что птица все время повторяет зловеще звучащее слово, пусть она лишь механически его затвердила, а психологические оттенки появляются самопроизвольно. Слово, повторяемое птицей, стало рефреном, и тем самым была решена проблема интонации, которой надлежит быть печальной, учитывая характер лирического сюжета. Сочетая "изобретательность" со способностью "тщательно и настойчиво отвергать нежелаемое", По отыскал нужную музыкальную тональность, продумал ассоциативные связи, определил и неукоснительно выдержал ритмический рисунок.
Стихотворение, потрясшее стольких читателей, которые, не обращая внимания на даты, считали его плачем по Вирджинии, хотя ей оставалось два года жизни, анатомируется, словно производят разборку часового механизма. Разработанный им мотив По старается ограничить пределами реального или, во всяком случае, объяснимого, добиваясь убедительности до того бесспорной, что странным противоречием самому себе выглядит заключительный абзац того же эссе: там сказано, что для настоящего успеха в поэзии требуются "во-первых, известная сложность или, вернее, известная тонкость; и, во-вторых, известная доля намека, некое подводное течение смысла, пусть неясное" (18; с. 121). Все объяснено, однако главное в стихотворении, его сокровенное значение определяется именно неясностью, недоговоренностью, тем мистическим озарением, которое, согласно По, должно прочно срастись с "математикой", позволяющей безошибочно рассчитывать частные эффекты.
Зная о страсти По ко всевозможным розыгрышам, легко счесть "Философию творчества" такой же насмешкой над доверчивой публикой, как рассказ о петербургских приключениях или историю с перелетом через океан на воздушном шаре. Однако на страницах эссе, описывающего сотворение "Ворона", По далек от иронии над читателем, не осведомленным в тайнах ремесла. Он лишь посвящает публику в законы своего искусства, органично соединившего интуицию и строгую логику.
взглядам По, воображение отнюдь не противостоит и не мешает интеллектуальному постижению природы вещей: просто область его действия начинается там, где рациональность бессильна. Оно "вне всяких философских систем постигает раньше всего внутренние и тайные соотношения между вещами, соответствия и аналогии". Логический анализ может предшествовать работе воображения, может ее сопровождать, однако неспособен стать его заменой. Точно так же бесплодно и воображение, порывающее с логикой, интеллектуальностью, последовательностью. Стихи рождаются в минуты экстаза, предельного напряжения чувств, дарующего необъяснимое ясновидение, однако для По творчество не сводится к записи этих видений, словно бы не контролируемых интеллектом. Напротив, контроль, упорядочивание, даже известная схематичность, под которой подразумевается строго выдержанное композиционное решение, с необходимостью входят в творческий акт.
Обо всем этом По размышляет в "Письме к Б.", в качестве авторского предисловия открывающем его сборник 1831 г. Адресат письма так и не был установлен, вероятно, его реально не существовало. Высказанные на этих страницах мысли По вынашивал с юности и остался им верен до конца своего пути.
Уже в раннем манифесте некоторая неясность, доля неопределенности, гармония, возникающая как бы независимо от логических построений, названы естественными свойствами настоящей поэзии, а ее определяющим достоинством признается музыкальность. Попутно отвергнуты представления о поэзии как разновидности философии, вкладывается ли в это понятие сугубо интеллектуальный смысл, как у Аристотеля, или, как у Вордсворта, ему придается нескрываемо дидактический оттенок. Для По смысл стихов в том, чтобы доставить удовольствие. От этого тезиса еще далеко до позднейшего заявления, что истинным делом поэзии является прорыв в область красоты, однако уже в юношеской декларации По заявлена идея, к которой он много раз возвращался, стараясь определить сущность поэзии: она представляет собой музыку в сочетании с мыслью.
Лучшие стихотворения книги 1831 года подтверждали выно-шенность такого понимания поэтического искусства. Книга включала несколько шедевров — "К Елене", "Израфил" — и воспроизводилась практически целиком в следующем, как оказалось, последнем прижизненном сборнике По, "Ворон" (The Raven, 1845). Сюда вошли и разбросанные по периодике стихи, которые публиковались на протяжении 30-х годов, хотя с большими перерывами: деятельность журналиста, работа над новеллами занимали все время без остатка. Недолгий всплеск поэтической активности выпал на заключительные годы жизни, когда вслед "Ворону", были написаны "Улялюм", "Эльдорадо", "Колокола", "Аннабель Ли". Основной свод стихотворного наследия По невелик: около семидесяти композиций, от пространного "Тамерлана", представляющего собой наиболее законченный образец байронической поэмы из всех созданных в Америке, до нескольких восьмистрочных миниатюр, иногда предназначавшихся в качестве заставок и эпиграфов к рассказам.
Хотя прозе По отдавал намного больше сил, стихи, в особенности такие хрестоматийные, как "Город среди моря", "Линор", "Евлалия", не говоря уже о "Вороне", в наибольшей степени способствовали его европейскому признанию, подразумевая художественные круги, близкие к символизму, — и тем самым принесли ему мировую славу. На родине отношение к его поэтическому творчеству всегда было намного более сдержанным: в этом смысле мало что изменили даже восторженные отзывы европейцев, заставившие соотечественников всерьез перечитывать полузабытого автора. Все так же считалось, что стихи По всего лишь демонстрируют выучку без вдохновения и, оставаясь бессодержательными, могут привлечь только устойчивыми эффектами яркой звукописи, запоминающейся цветовой гаммой, нагнетанием мрачных настроений и т. п. Очень последовательно это мнение отстаивал, в частности, один из столпов "новой критики" А. Уинтерс, подкреплявший свои оценки цитатами из Т. С. Элиота, для которого По был интересен лишь как теоретик стиха, и язвительным комментарием О. Хаксли, находившего эти строки "нестерпимо мелодичными" даже в тех немногих случаях, когда им удается подняться над "густо их окрашивающей вульгарностью"23.
"эффекта" даже в лучших стихотворениях По, характерно для преобладающего американского восприятия этого поэтического мира. Очень во многом оно было предопределено особой устойчивостью представлений об обязательных дидактических функциях поэзии, которая должна обладать легко узнаваемой серьезностью содержания, — пуританская традиция, доминировавшая в американской духовной жизни два столетия, придала этим положениям нормативный характер. Оттого стихи По должны были раздражать своей как бы нарочитой изощренностью композиционного и музыкального решения, чрезмерной заботой о безупречности рифм, богатством интонационных оттенков. Все это казалось самоценным, выдавая явное пренебрежение учительным назначением литературы. Джеймс Рассел Лоуэлл, возможно, уязвленный довольно скептичными отзывами По о его стихах, писал, прочтя "Ворона": автор схож с каменотесом, превосходно обработавшим груду плит, которые, однако, так и остались валяться на площадке, не образовав хотя бы постамент для будущего памятника. Для Лоуэлла, чья статья-манифест "Предназначение поэта" твердо отстаивала мысль о долге художников содействовать всему истинному и благородному, было естественно не увидеть в стихах По ничего, кроме пиротехнических фокусов. В дальнейшем позитивистски ориентированная критика придала такого рода суждениям характер аксиоматичности.
При этом подходе естественно признать наиболее значительным из стихотворных произведений По "Тамерлана", так как в этой поэме, написанной еще не окрепшей рукой, несомненно присутствует значительная тема, пусть своим характером она обязана восторженному чтению Байрона. Читатель обнаруживал целый сгусток явственно байронических мотивов: трагическое разочарование в жизни, герой-титан, вступающий в противоборство с миром, роковая любовь, обманутая доверчивость, появляющийся в кульминационные моменты восточный колорит. Переиздавая поэму, По сократил ее вдвое, стремился скрыть следы слишком явной имитации, однако так и не смог преодолеть духа подражательности.
Но уже в следующем своем большом произведении, "Аль Аарааф", он сделал заметный шаг в направлении творческой самостоятельности. Предчувствуя, что поэма будет встречена с недоумением, автор сопроводил ее вступительной заметкой, объясняющей, что заглавие взято из арабской мифологии, в которой оно означает чистилище: попавшие туда не обретают бессмертия, но им дарована еще одна жизнь, исполненная наслаждения, за которым приходит смерть. Несколько описаний цветов и дворцов планеты, где расположен этот нимб, монолог ее владычицы Не-сэйс, диалог лирических протагонистов, выступающих под условными именами Анджело и Янтэ, — все это составляет контур сюжета, столь же размытого, как в философской поэме Шелли "Эпипсихидион", являющейся наиболее близким соответствием "Аль Аараафа".
Поэма представляла собой эксперимент, впоследствии не имевший существенных отзвуков, так как он оказался в целом неудачным: отсутствовала сколько-нибудь ясно выраженная основная мысль, не удалось найти и метафорических ходов, которые придали бы убедительность слишком умозрительной концепции, положенной в основу этого произведения. Оно, однако, примечательно как попытка целиком довериться воображению, создав поэтическую реальность, существующую по собственным законам, сколь бы условными они ни были, порождая неясность на грани герметизма: недаром все переводы "Аль Аараафа", даже если это были откровенные подстрочники, как у К. Бальмонта, увенчивались невнятицей. В творческом становлении По неудачный "Аль Аарааф", однако, важен как открытая декларация приверженности романтизму, наделившему воображение безграничными правами. О романтических верованиях По еще яснее сказал сонет "К науке", справедливо считающийся своего рода прологом, вводящим в мир поэмы. Это одно из самых непримиримых и вызывающих ниспровержений ложного могущества интеллекта, когда он мертвит усилия воображения. Им лишь дискредитируются откровения, которые явлены поэтическому гению, а ведь они всегда существенно важнее "истин мрачных". Однако человек остается в плену этих истин, и ему не дано довериться грезам, уносящим далеко от "тусклой реальности".
Впоследствии По выступил как раз в качестве писателя, необыкновенно высоко ценившего аналитические способности интеллекта, и сам разработал умозрительную космогонию в "Эври-ке". Но и "Эврика", и предшествующие ей новеллы о гениальном аналитике Огюсте Дюпене относятся к тому времени, когда творчество По на самом деле стало приобретать черты, давшие основание его французским интерпретаторам говорить о преодолении романтизма в его наиболее расхожих, быстро себя исчерпавших версиях. "Аль Аарааф" и предшествующий ему сонет написаны пером образцового романтика, апологета воображения, не признающего сдерживающих и контролирующих начал, и антагониста интеллекта, власть которого вызывает лишь ассоциации с плоской рассудочностью, воспарившей на крыльях стервятника.
"Город среди моря" и указавших его истинную поэтическую тему, которая сделалась неотступной, определив глубокую оригинальность всего его художественного мышления. Стихи, написанные в 1831 г., строго говоря, должны были бы открывать любой том, представляющий зрелое поэтическое творчество их автора:
Там, на закате, в тьме туманной
Я вижу, вижу город странный,
Где Смерть чертог воздвигла свой...
(перев. Н. Волъпин)
Тот же "Город среди моря", с его образом могил, что "разверсты вровень с гладью стылой", и башни, с которой "смотрит смерть сама", ни по времени написания, ни по характеру образности, отмеченной явным преобладанием иносказательного начала, невозможно отнести к памяти Джейн Стенард, первой возлюбленной По, или связать с какими-то другими потрясениями в его жизни. Обычная ошибка в восприятии "Ворона" явилась следствием такого рода прямолинейного отождествления фактов творчества с событиями в жизни поэта, которые даже начинают выглядеть неким реальным комментарием к стихам.
Однако эта аберрация не могла бы возникнуть самопроизвольно. Повод для нее давала неотступность и обостренность переживания Смерти, бросающаяся в глаза читателям стихотворений По. Невольно принимались отыскивать биографические параллели.
В действительности эти аналогии справедливы лишь применительно к нескольким стихотворениям: "Улялюм", "Аннабель Ли", а также помеченным 1831 г., но впоследствии переработанным стансам "К Елене" — имя, за которым скрывается Джейн Стенард. Образ города мертвых, который лежит на морском дне, диалог между женихом, потерявшим невесту, и его утешителями ("Линор"), описание грустного спектакля жизни, в котором героем выступает Червь-победитель, лилия над безымянной могилой ("Долина тревоги"), ламентации, заполняющие строфы "Спящей", — все эти метафоры и мотивы невозможно истолковать, отталкиваясь от установленных фактов биографии По. Исследователи обнаружили, что тема Смерти является доминирующей не менее чем в каждом третьем из написанных им стихотворений, а в других она соотносится с темой утраченной любви. Как ни относительна ценность таких подсчетов, все же они заставляют признать, что Смерть действительно была главным поэтическим сюжетом, особенно в стихах, созданных после книги 1831 г.
Они, однако, едва ли могут быть восприняты только как скорбная лирика, за которой, кроме боли личных утрат, стоит еще и обычная в романтическом искусстве "мировая тоска", горькое переживание убожества и порочности жизнеустройства. У Эдгара По гораздо сильнее выражен тот ужас перед неотвратимостью физического исчезновения, который окажется созвучен скорее не умонастроению его времени, а эпохе, возвестившей о смерти Бога и покончившей с романтическими устремлениями к трансцендентному, сверхреальному, непостижимому. По воспринимал Смерть как константу существования, и его стихи выразили трагическое чувство постоянной зависимости живых от потустороннего мира, где
небо спящую хранит,
На ложе, прежнего печальней,
В иной и столь священной спальной,
(перев. А. Эппеля)
Эта зависимость от Смерти переживается напряженно, порою даже экстатически. Однако истинное своеобразие стихотворений По определяется не такого рода устойчивостью мотива угасания и конца — для романтиков с их неослабным вниманием к сокровенному в человеке этот поэтический мотив был всегда одним из важнейших. Необычность По — скорее в осознании Смерти как все время ощущаемой спутницы будничной жизни и в уникальном сочетании эмоционального экстаза со строгой точностью деталей, математической выверенностью композиции. Убежденный, что в искусстве все решает "необычное комбинирование обычных вещей", По стремился обнаружить странное в обыденном, и странное у него нередко приобретало оттенок мистического, однако прокламируемый им "мистический смысл", в сущности, враждебен любым проявлениям иррациональности. Тот же "Город среди моря" — стихотворение, варьирующее мотив покарания Содома и Гоморры, — быть может, всего более примечательно обилием реалий, которые никак не назвать эзотерическими, однако соединение этих реалий действительно уникально, и возникает символ, по содержательности и величественности сопоставимый с библейским прообразом. "Долина тревоги", "Линор", "Спящая" — все это образцы новаторского сочетания привычных вещей.
"привычному" и превратила По в непримиримого противника аллегории — художественного мышления, которое он считал совершенно неприемлемым, чтобы выразить озарения и катастрофы романтической души. Аллегория с ее умозрительными метафорами и в то же время неизбежной прямолинейностью смысла оказывалась, в представлениях По, несовместимой с широко им трактуемой образностью: эта категория понимается им уже близко к той интерпретации, которую ей придаст символизм, говоря о том, что образ должен обладать смыслом однородным, поддающимся определению, но не сводимым ни к одной логической конструкции.
Впоследствии этот тип образности приобретет и определение, к которому По вплотную подошел в теоретических статьях, доказывая свои тезисы такими стихотворениями, как "Аннабель Ли", — суггестивность. Она в творчестве По, однако, была не совсем идентична поэтике символа, укоренившейся у Малларме и его приверженцев. Неопределенность значения, его несводимость к логически формулируемому высказыванию является обязательной и в том, и в другом случае. Но в лирике По суггестивность, разрушающая барьеры между действительным и грезящимся, обычно сопрягается с чисто романтическими мотивами утраченного рая, разбившихся надежд, невозвратимого счастья, — у символистов все это фактически не нашло ни отзвуков, ни продолжений. Даже в стихах о Смерти образ утраченного Эдема остается одним из самых примечательных.
Очень ясно это видно на примере стихотворения "Долина тревоги", которое, помимо остального, можно рассматривать как пример безошибочного поэтического ясновидения: По осознает собственную жизнь как череду утрат, предчувствуя, что и ему самому сужден недолгий земной срок. Однако эти грустные размышления развернуты на фоне почти идиллического пейзажа, и тоска подступающего небытия смягчается воспоминаниями о том "тесно замкнутом Эдеме мечтаний и сновидений", который тоже является одной из констант поэтического мира Эдгара По:
А степь фиалками полна,
И плачет лилия одна
Роняя капель жемчуга,
И жжет слеза, на стебли трав
Росой бессмертною упав.
У По даже факт, обладающий таким громадным и трагическим значением, как Смерть, не самодовлеющ, но преломляется через сложную гамму ассоциаций, соответствий, соотношений, врастая в целостный образ мира. По никогда не был тем певцом Смерти, каким его изображали декаденты, увлекавшиеся его поэзией. Они не чувствовали "подводного течения смысла", которое было центральной формулой его поэтики.
Замечались только повторяющиеся темы и образы. Утрата, гибель и метафоры, навеянные этими сюжетами, среди них действительно главенствуют, однако они не замкнуты в себе. По привлекали те моменты человеческого бытия, когда обнажается его сущность, его неотменяемый закон. Смерть у него оказывалась тесно переплетена с любовью, красотой, ужасом бесследного исчезновения, несмелой и все-таки упорной надеждой, что не могут и не должны навсегда оборваться связи, которые здесь, на земле составляли истинную жизнь души. "Ворон" выразил эту философскую, духовную, эмоциональную настроенность наиболее полно:
Я воскликнул: "Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий!
Если только Бог над нами свод небесный распростер,
Там обнимет ли в Эдеме лучезарную Линор —
Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?"
(перев. М. Зенкевича)
Магия этих строк создана и той предельно интенсивной эмоциональностью, определяющей насыщенность поэтического повествования, при которой невозможна ясность значения: оно не является и не может являться до конца выраженным, так как теряется в эффекте магического воздействия, которым По в особенности дорожил. Читатель отрешается от будничного психологического состояния, мир предстает в пропорциях, недоступных восприятию, которое сковано рациональной нормой. Эти пропорции неожиданны, они завораживают, как прикосновение к тайне. Все оказывается глубоко содержательным — рефрены, неравномерность строк, ритмические перебивы, анафоры, ассонансы.
— мимолетное, но зато незабываемое причащение к мировой гармонии, к красоте, чей облик не в силах изуродовать даже непреложность физического конца. В юности поклонник Байрона, По затем очень далеко от него ушел, однако байроническое умонастроение держало его в своей власти до самого конца, формируя судьбу и предопределяя поэтическую тональность. В лирике зрелого По оно отозвалось не какими-то легко распознаваемыми отзвуками байроновской музы, а скорее тесной переплетенностью взаимоисключающих начал. Любовь здесь всегда рядом со Смертью, и ощущению духовной свободы мешает еще более неотступное чувство: человек не более как раб неподвластных ему злых начал бытия, и каждый миг существования таит в себе бездну противоречий, создающих жестокие драмы духа.
Этот смысл открывается действительно лишь в "подводном течении", так как однозначная определенность исключалась всем характером представлений По об искусстве. И воплощаться этот смысл мог в строфах, обладающих редким многоцветием оттенков — от крайней мрачности "Города среди моря" до мелодии "Колоколов" ("The Bells", 1849), которую иной раз точнее всего назвать ликующей:
О, как звонко, звонко, звонко,
Точно звучный смех ребенка,
В ясном воздухе ночном
Что за днями заблужденья
Что волшебно наслажденье— наслажденье нежным сном.
(перев. К. Бальмонта)

где он жил В 1846-1849 гг.
Безупречное мастерство, которым восхищались даже те, кто в целом скептически оценивал лирику По, требовалось не само по себе. Оно одно давало возможность преодолеть узкие рамки общепринятого, поверхностного, самоочевидного, достичь такого могущества слов, когда они способны выразить даже неуловимую грезу, неясное, едва мерцающее переживание — и сохранить его неискаженным.
"Подводное течение смысла" становится особенно мощным в заключительные годы творчества, когда многозначность метафор оказывалась у Эдгара По действительно очень широкой. Тогда открывается особая, не поддающаяся логическим толкованиям связь явлений и переживаний, то, что немецкие романтики называли "der Тбпе Licht" — "свет звуков", постигаемая лишь поэтическим чувством сущность вещей в их единстве, при всей внешней разделенности. Брюсов имел в виду это качество поздней лирики По, отозвавшись о "Колоколах" как о стихотворении, в котором "преобладающую роль играют не образы... а звуки слов".
Но эта звукопись, изумлявшая даже таких требовательных мастеров стиха, как Брюсов, не всегда осмыслялась в ее содержательной насыщенности, которая представляется несомненной.
романтиков лирический сюжет По сумел наполнить неподдельным трагизмом. Ослепительно яркие метафоры и сложные, иногда старательно зашифрованные символы "Улялюм" и "Эльдорадо" для него не были самоцелью. Они лишь помогли отчетливо выразить умонастроение, вызвавшее эти запечатленные в его стихах метания духа, рушащиеся иллюзии, порывы к потустороннему и болезненные стычки с людьми, не понимающими и не принимающими самого этого типа духовной жизни. Рефлексия, не знающая компромиссов аналитичность, страстная вера в гармоничный мир, рожденный поэтическим воображением скепсис слишком проницательного наблюдателя — этот уникальный сплав отмечен и осознанностью соединения разнородных начал, и их откровенной конфликтностью, создающей внутреннее напряжение последних стихов По.
Оно отвечало тому душевному состоянию, которое в них запечатлено. Тоска, самобичевание, перебиваемое безумными надеждами одолеть власть Смерти и исступленной нежностью к "святой, что там в Эдеме ангелы зовут Линор", — все это сливалось в лирике "Ворона", "Колоколов", "Аннабель Ли". Созвучиями слов, для обыденного сознания несочетаемых, устанавливалась родственность там, где обычное зрение не обнаруживает ни близости, ни переклички. Разрушены барьеры, разделяющие будничное и воображаемое, действительное и грезящееся, бытие и небытие.
Как для всех романтиков, стихи были для По формой исповеди, однако расцвеченной фантазией, такой яркой, что и будничное становилось захватывающим. В этой исповеди открывается типично романтическая драма личности, переживающей драму жизни с исступленной напряженностью, а оттого заведомо неприемлемой для толпы. Лирику По нельзя назвать ни иносказательной, ни, в строгом смысле слова, философской. Это лирика сердца, и в ней запечатлен болезненный разлад с обыденностью — то, что принес в поэзию романтизм.
Трагическая тональность этой лирики, резкие перепады испепеляющей тоски и минутной, но беспредельной радости, прочнейшее единство алгебры и гармонии остались уникальными в истории поэзии, как и художественный язык лирики По, о котором, быть может, всего точнее сказал он сам в сонете, переведенном К. Бальмонтом:
Есть свойства — существа без воплощенья,
—
В той сущности двоякой, чей родник —
Свет в веществе, предмет и отраженье.
5
После 1831 г. стихи пишутся лишь от случая к случаю, так как По открывает в себе новое призвание — прозаика. Произошло это отчасти случайно — вряд ли он всерьез рассчитывал переменить судьбу, отправляя "Рукопись, найденную в бутылке" на конкурс, устроенный в Балтиморе, — ведь он и прежде участвовал в таких состязаниях. Тогда он выиграл, но наградой стала только бесплатная публикация. На этот раз ему достался денежный приз, пришедшийся очень кстати, ибо дела находились в самом плачевном состоянии. Он ощутил вкус удачи, с удвоенной энергией взявшись за "Рассказы Фолио-клуба", цикл новелл, куда должна была войти и отмеченная премией.
С поэзией на время было покончено. Новый жанр увлек По безоглядно", и за пять лет им было написано около двадцати новелл, которые вместе с уже напечатанными до балтиморского конкурса составили двухтомное издание "Гротески и арабески". Еще двенадцать новелл вошли в сборник "Рассказы" (1845), которому предшествовала крохотная — две новеллы — книжка детективных историй ("Романтические новеллы в прозе"; Prose Romances, 1843). Вместе с "Приключениями Артура Гордона Пима" и "Эврикой" эти три издания — все, что при жизни По вышло отдельными книгами. Остальное сохранилось в журналах и было собрано лишь через много лет после смерти автора. Получился объемистый том из семидесяти новелл.
из Нантакета, а книга о нем включает "рассказ о бунте и ужасающей резне на борту американского брига "Дельфин", направляющегося в южные моря, а также описывает освобождение судна из рук пиратов оставшимися в живых матросами, постигшее их кораблекрушение, их невыносимые страдания от жажды и голода, спасение несчастных английской шхуной "Джейн Грей", краткое плавание последней в Антарктическом океане, ее захват и убийство экипажа туземцами с островов, лежащих на 84-м градусе южной широты, равно как и невероятные приключения и открытия еще дальше к югу, последовавшие за этим бедственным происшествием". Обширный замысел был осуществлен По менее чем на треть.
Оборвав свой рассказ в момент, когда действие приблизилось к кульминации, По больше к нему не вернулся. Много лет спустя книгу завершил Жюль Берн, написав роман "Ледяной сфинкс". "Повесть о приключениях Артура Гордона Пима", как многие другие произведения По, была бы, вероятно, надолго забыта, если бы не усилия Бодлера. Он первым заговорил о серьезном литературном значении повести, оценив ее как великолепный образец "морской прозы", имеющей большие традиции в американской литературе, но прежде всего — как рассказ с богатым символическим подтекстом. В самом деле, за жизненными перипетиями героя постоянно возникает центральный для повести мотив инициации, и красочные картины, рожденные романтическим воображением По, приобретают философский смысл.
Такое понимание "Приключений Артура Гордона Пима" осталось преобладающим, и оно подкреплено движением основного конфликта, хотя и не развернутого в полной мере. Герою повести постепенно открываются все более травмирующие истины относительно человеческой природы. Само "приключение" становится формой познания. Пим удостоверяется, что побуждения к насилию при определенных обстоятельствах могут обратить в прах все моральные стимулы и запреты. Как ни ужасает его это открытие, он вынужден признать, что способность к предательству присуща человеку, по крайней мере, столь же несомненно, как потребность в товариществе. Добропорядочность оказывается только фикцией, а инстинкт самосохранения любой ценой всевластен.
придерживались и высоко ценившие это незавершенное произведение У. Х. Оден и Р. Уилбер.
Однако текст предоставлял возможности для других толкований, поскольку многое в нем намечено лишь пунктиром и оставляет простор для достраивания повествовательных линий, которые самим автором брошены без продолжения. Оспаривая традиционное прочтение, критики справедливо указывали, что аллегория — жанр, требующий неукоснительно выдержанного структурного единства, тогда как повесть эпизодична, содержит немало темных мест и намеренно запутывает читателя, который хотел бы извлечь из нее ясный моральный урок. Поэтому одиссея героя, пытающегося постичь собственную человеческую сущность, может быть прочитана и как история преодоления им всевластных эротических табу, и как его попытка заглушить все более настойчиво звучащие мысли о самоубийстве, пусть сам он в них не признается, и как мистификация читателя, проникающегося иллюзией, будто он способен логически объяснить происходящее с Пимом, тогда как повесть как раз и говорит о невозможности, принципиальной недостижимости такого рода логики, о потенциальной многосмысленности любого события и жизненного факта. Джон Барт, посвятивший "Приключениям Артура Гордона Пима" специальную статью (1992), не оспаривал, что перед читателем история "героя, пускающегося в плавание с целью познать самого себя", однако решительно не согласился с попытками отыскать в повести "великую мифологическую идею". Для Барта это не иносказание, а очередной розыгрыш, жертвами которого должны были стать вечно передразниваемые По приверженцы "серьезной" (т. е. идеологизированной и дидактичной) литературы24.
персонажей внести логичность или, по крайней мере, осмысленность в окружающий их жизненный хаос, а драма героя сопряжена с неосуществимостью этих устремлений: с ними не согласуется сам порядок вещей в мире, который всегда остается загадкой и тайной, вопреки попыткам воспринимать его как некую "систему". Нечто схожее происходит и с Пимом, а отдельные эпизоды повести, особенно сцены пребывания экипажа "Джейн Грей" на острове и встреч матросов с туземцами, предстают как яркий образец смысловой многовариантности, присущей рассказу По, который уже самой своей художественной организацией разрушает или, по меньшей мере, ставит под сомнение понятие реальности как единства, обладающего неким зашифрованным, но в конечном счете постижимым смыслом.
Сцена на Южном полюсе, оставляющая читателя в недоумении относительно того, символизирует ли она конец странствий героя, увенчавшихся обретением некой высшей духовной истины, или же непреодолимую загадочность универсума, остается одной из самых энигматичных в наследии По (и вызывающих наиболее разноречивые истолкования, вплоть до понимания его прозы как лишенной элементов репрезентативности, представляющей собой, по формуле французского постструктуралиста Жана Ри-карду, "путешествие к концу страницы", и не больше). При этом, однако, остаются непроясненными причины, заставившие По бросить свой рассказ, когда развязка только приближалась. Меж тем для такого решения были серьезные эстетические причины.
Дело заключалось не в том, что По охладел к своему плану, а в неудовлетворенности творческим результатом. Целостного впечатления добиться не удалось. Меж тем в эстетике По целостность, "тотальность" воздействия на читателя первостепенно важны, идет ли речь о стихах или прозе.
Развернутые заглавия были распространены в тогдашней литературе, особенно приключенческой, и тем не менее у По заголовок неоконченной книги явился не только данью устоявшемуся обычаю, а выделял некоторые важные особенности его прозы. Одним из ее непременных отличительных качеств была насыщенность событиями, напряжение интриги, которое необходимо все время сохранять и усиливать, изобретая захватывающие фабульные ситуации. Фрагментарное и фактически бессобытийное повествование, в котором распознаваем лишь слабый контур сюжета, а в действительности развернута отвлеченная философская коллизия, при всей своей характерности для романтической прозы, особенно немецкой, не удовлетворяло По. Его пристрастие к запутанным фабульным положениям и замысловатым ходам, нередко позаимствованным из авантюрных романов, рассчитанных на примитивные вкусы, часто объясняют привычкой литератора, всю жизнь работавшего для журналов, где такие требования к беллетристике были обязательными. Однако, помимо профессиональных навыков журналиста, тут сказывались и художественные верования По.
Он считал, что в прозе исключительно важен элемент гротеска, и если в повести об испытаниях, доставшихся Пиму, это требование эстетики По остается фактически невыполненным — дело сводится лишь к обилию ужасов и убийств, — то в новеллах, начиная еще с "Рассказов Фолио-клуба", оно главенствует. Заглавие основного сборника прозы По выбрано, разумеется, не случайно, причем термины "гротеск" и "арабеск" в его словаре достаточно строго разграничены. Оба они переняты из статьи Вальтера Скотта о Гофмане, но осмыслены сеобразно.
— едва ли не на грани фарса — преувеличение нелепости или, во всяком случае, нешаблонности изображаемых ситуаций, характеров, событий и т. п. Рецензируя "Лавку древностей", По ставит в особую заслугу Диккенсу его художественный слух, позволивший точно определить необходимую меру преувеличения, "без чего невозможно добиться правды. Мы ведь изображаем предметы не для того, чтобы они выглядели похожими, а чтобы зритель признал достоверной нашу картину. Если бы дело сводилось к точному воссозданию природы, воссозданное таким способом оказалось бы противоестественным"25.
Арабеск в этой системе понятий оказывался более сложным и тонким эстетическим средством, так как им не только создается ощущение нешаблонности и разрушается плоское жизнеподобие, но и выявляется нечто мистическое в изображаемых жизненных положениях, так что создание художника предстает, в соответствии с доктриной Кольриджа, не столько полотном действительности, сколько откровением о жизни. В трактовке По гротеск был прежде всего опровержением рационалистической упорядоченности, тогда как арабеск знаменовал проникновение в тайны бытия. Поэтому сам он находил, что гротескная поэтика уместна в тех его рассказах, где воссоздана реальность, обязательно наполненная у По многочисленными "бедственными происшествиями", физическими и душевными пертурбациями, нередко и откровенными ужасами, но в то же время способная представать и в грубо комедийных — фарсовых, шутовских — проявлениях. Арабесками По признавал лишь рассказы, передающие "ужас души", которой открылась некая мистическая связь явлений: жизнь предстала как "безмерная сложность" (А. Блок), а ее тайна оказалась гнетущей, даже непереносимой для людей с нормальными психическими реакциями.
На самом деле провести различие между "гротесками" и "арабесками" в прозе По, как правило, непросто: художественные принципы остаются однородными, к каким бы сюжетам он ни обращался и каких бы — пугающих или комедийных — эффектов ни стремился достичь. Одна из особенностей его искусства, сказывающаяся в новеллах самого разного типа, указана М. М. Бахтиным, который на примере рассказов "Бочонок амонтильядо" и "Маска Красной Смерти" писал о "непосредственном соседстве смерти со смехом" как основном сюжете По, в этом смысле оказывающегося, вслед другим романтикам, наследником Ренессанса. Различие с ренессансным чувством мира, а тем самым — и с эстетикой Возрождения, однако, выступает у По столь же явственно, как и сходство: на место былой слитности, нерасторжимости двух главенствующих начал бытия приходит ощущение неповторимости индивидуальной жизни (следовательно, и непоправимости ее конца), и поэтику определяют уже не сращение, а напротив, "статические контрасты" карнавала и катакомб, где будет замурован убитый во время праздника, веселья и ужаса, ликований и чумы. "Здоровое объемлющее целое торжествующей жизни отсутствует, остались голые и безысходные и потому жуткие контрасты. За ними, правда, чувствуется какое-то темное и смутное забытое сродство..."26
Обе новеллы, привлекшие внимание М. М. Бахтина, принадлежат к числу арабесков, однако то же самое соседство Смерти со смехом можно обнаружить и в рассказах, к арабескам не причисляемых, как "Береника", в связи с которой По сформулировал свое толкование гротеска. Ключевое для этой новеллы слово "мономания" — "нервная напряженность интереса", вызываемого каким-нибудь незначительными вещами, которые, однако, поглощают "всю энергию и всю волю духа к самососредоточенности", — справедливо и для определения поэтики большинства других новелл, включая такие прославленные рассказы-арабески, как "Лигейя" и "Падение дома Ашеров".
Для всех них характерны черты, позволяющие констатировать общность художественного мира, созданного этой новеллистикой. В ней преобладает ситуация ужаса, вызываемого полуосознанными страхами героев не в меньшей степени, чем внешними обстоятельствами, лишь постепенно — и не обязательно до конца — открывающимися читателю. При плотной насыщенности интриги сюжет рассказа По чаще всего образуют не сами события, а причины, делающие эти события необходимыми и взаимосвязанными. Выявление этих причин требует немалых логических усилий, и все повествование, несмотря на экстраординарность фабульных ходов, представляет собой жесткую логическую конструкцию, предопределяющую стилистическое решение: "Не должно быть ни единого слова, которое прямо или косвенно не было бы направлено на осуществление первоначального замысла". События развертываются в тщательно воссозданной атмосфере, которая призвана навеять ощущение замкнутого психологического пространства: это разрушающийся дом, подземелье, подвал, камера инквизиции, комната в полуразвалившейся башне аббатства, стены библиотеки, в которой, обрекая себя на добровольное затворничество, заперлись герои. Время событий условно, однако действие предполагает момент высшего напряжения интеллектуальных и духовных сил персонажей. Композиция нередко строится с использованием рассказчика, воплощающего психологическую норму, — в отличие от героя, отмеченного той или иной степенью патологии.
статьях По и разъяснениях, которые он давал своим вещам. Подразумевая "Беренику", он писал о собственных новеллах: "Вы спрашиваете меня, какова их природа? Она предполагает нелепости, доведенные до гротеска, страшное, которому придан оттенок ужасного, остроумие, возводимое в степень бурлеска, вещи необыкновенные, которые превращаются в странность и таинственность"27. Более выразительного описания его поэтики не предложил ни один исследователь.
Она не претерпела заметных модификаций и в "логических рассказах", как сам По определил свои новеллы о детективе Дюпене. Две из них ("Убийства на улице Морг", "Тайна Мари Роже") справедливо считаются художественным открытием, так как от них ведет свою генеалогию жанр детектива, лишь внешне, по материалу родственный полицейским романам, сочинявшимся независимо от уроков американского прозаика. Еще до появления Дюпена на литературной сцене, По определил прозу как синтез двух внешне несочетаемых начал: с одной стороны, она должна касаться не только будничности, но главным образом сферы таинственного, страшного, отступающего от обыденного круга и даже иррационального, с другой — преодолевать "священный ужас", устанавливая "всего лишь ряд причин и следствий, вытекающих друг из друга как нельзя более естественно". Отчасти этот взгляд на природу прозы соответствовал коренному положению романтической эстетики, разграничившей красоту и правду: первая признавалась целью поэзии, так что прозе надлежало оставаться в границах широко понимаемой достоверности. Однако у По эта идея переосмыслена очень существенно. Для него проза привлекательна тем, что в ней "сила воображения" дополняется и корректируется "силой подробностей", — синтез, который привлек в рассказах По одного из самых проницательных ценителей, Достоевского.
Этот синтез на лучших страницах По достигнут прежде всего при помощи интуиции. В "Эврике", содержащей наметки идей, которые, как выяснилось, предвосхитили физику и психологию двадцатого столетия, интуиция определяется как убеждение, возникающее в результате таких процессов индукции и дедукции, которые являются совершенно неопределенными, а оттого ускользают от сознания и не поддаются словесному выражению. Поэтика "света звуков", наиболее ярко раскрывшаяся в "Улялюм" и "Колоколах", была в этом смысле поэтикой интуиции.
Она и в новеллах нередко дает себя почувствовать, заметно осложняя их толкование, которое, несмотря на строгую логичность движения линий рассказа, противится формулировкам, выраженным языком логики.
"сочетание новизны и скромности", которое он находил идеалом истинно эстетического. Трагизм и пугающая шутка сближены в его новеллах едва ли не до полной неразличимости. Эту характерную черту искусства По превосходно почувствовал и передал Феллини, снявший в 1968 г. фильм "Тоби Данмит", в основу которого легла новелла "Не закладывай черту своей головы" (лента вошла в киноальманах "Три шага в облаках"). Новелла носит остро гротескный характер и преследует полемические цели: это еще один почти не завуалированный выпад По против Эмерсона и бостонских любомудров.
В сущности, рассказ представляет собой обработку типичной для американского фольклора "небылицы", где властвуют яркая выдумка, необузданная комедийность и не лишенный жестокости розыгрыш. У По несколько таких новелл, менее всего подкрепляющих его репутацию обреченного бунтаря, над которым всевластен демон извращенности, — напротив, в них чувствуется перо газетчика, не чуждого грубоватых приемов фельетонного письма, привычного к нескрываемым передержкам, а иногда и к шутовству.
Феллини, перенеся действие в наши дни, сохранил гротескность и юмор, передав обыденность фона, на котором развертываются события невероятные и нелепые — вроде описанного в новелле По пари с чертом, в итоге унесшим голову незадачливого спорщика. Однако эта "экстраваганца", если воспользоваться словом, обычно выступающим у По синонимом гротеска, как он трактовал данную категорию, в осмыслении Феллини не столько смешит, сколько доносит ощущение реальности кошмара, не пригрезившегося, но происходящего посреди самой заурядной будничности. Бред и явь смешиваются, срастаются, и чистым произволом оказалась бы попытка обособить подлинное от фантастического.
По любил повторять строку из байроновского "Дон Жуана": "Правда всякой выдумки странней". Он цитирует ее в "Повести Скалистых гор", в "Преждевременных похоронах", "Тысяче второй сказке Шехерезады", "Фон Кампелен и его открытии" и даже в своей автопародии "Как писать рассказ для "Блэквуда". Так обосновывал он право писателя на самую смелую фантазию, которая, однако, должна была сохранять убедительность истинного факта.
"Угрюмый призрак-страх", о котором он рассказывает в "Падении дома Ашеров", бродит по страницам многих его новелл, однако при всей мрачности колорита они далеки от готической прозы. По не раз пародировал типовые приемы Радклифф, Уол-пола и их подражателей, нагнетавших изощренные ужасы и пристрастных к безвкусной бутафории, мелодраматической патетике и поставленным на котурны персонажам-злодеям. Как и его герою Родерику Ашеру, По был присущ талант "живописать идею". Фантастические ситуации и жестокие развязки его новелл, где страх изображен в самых разных проявлениях, всегда заключают в себе характерную для романтиков мысль о неотвратимости и трагизме разлада с бытием. Нетрудно заметить, как целенаправленны обрушивающиеся на персонажей По удары судьбы. Жертвой становится красота, слишком хрупкая и неприспособленная для этого мира.
"обретает неодолимую власть надо всем". Такими рассказами, как "Маска Красной Смерти", предопределена репутация По как художника, предвосхитившего декаданс. И в самом деле, у него уже можно найти отдельные мотивы этой литературы. "Овальный портрет", например, содержит метафору, впоследствии столь притягательную для Уайльда, — искусство, убивающее живую жизнь. Современному читателю "Вильяма Вильсона" наверняка трудно будет освободиться от ассоциаций с повествованием Кафки: та же незримая, но всемогущая сила порабощения личности, та же отчаянная и безнадежная борьба за физическое выживание, хотя намеренно не прояснены причины, приведшие к описываемой страшной ситуации.
Однако этими параллелями не следует увлекаться. По не любил обобщений, питая настоящую страсть к конкретике описания, достоверности мотивировок, рациональности рассказа даже о событиях невероятных и мистических. Имея в виду "Лигейю", Брюсов характеризовал По как художника, описавшего "позорную комедию, коей название "Червь-победитель", и упрекнул американского писателя в неправоте: ведь если лишь эта комедия разыгрывается на сцене бытия, существование лишено смысла (4; с 221). Но такое восприятие По однопланово и тенденциозно, так как навязывает ему прямоту обобщения, для него чужеродную.
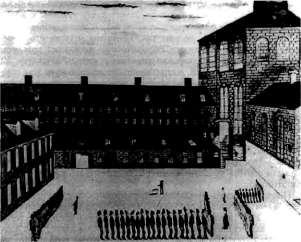
ТЮРЬМА В ЧАРЛЬСТОНЕ
Неизвестный художник. 1840.
Гораздо глубже понял его Достоевский, опубликовавший три новеллы По в первом же номере своего журнала "Время". Небольшая сопроводительная заметка, написанная Достоевским, констатирует: "В По если и есть фантастичность, то какая-то материальная, если б только можно было так выразиться"28. Вот этой "материальной" фантастичностью определяется не только художественный строй произведений По, а в известном смысле — сам характер выраженного им мироощущения.
и спокойная, она для романтика таила в себе скрытые драмы и душевные муки, которые и запечатлены По в его "гротесках и арабесках" — причудливо, сложно, фантастично, однако, как правило, с неукоснительной художественной точностью.
Об одной из своих новелл он сам писал: "Своеобразие "Ганса Пфааля" заключается в попытке достичь правдоподобия, пользуясь научными принципами в той мере, в какой это допускает фантастический характер самой темы". То же самое можно сказать о большинстве других прозаических произведений По, идет ли речь о "гротесках" или о "логических рассказах". Даже его притчи характерны строгой расчитанностью композиции и своеобразным фактографизмом, не допускающим чрезмерно смелых полетов воображения. Так, в рассказе "Король Чума", где, кажется, всевластны условность и мрачная символика, на самом деле содержатся картины эпидемии холеры, которую По наблюдал в Балтиморе летом 1835 г.
Вне зависимости от материала и даже от жанра, к которому принадлежат новеллы По — притчевые, детективные, юмористические, пародийные и т. п., — законом, определяющим характер повествования, остается многозначность смысла, корректируемая точностью и выразительностью подробностей. Анализируя в категориях структурализма новеллу По "Правда о том, что случилось с мистером Вальдемаром", Ролан Барт сразу же снимает саму задачу "найти единственный смысл,... даже один из возможных смыслов текста", ограничиваясь тем, что прослеживает "пути смысло-образования"29. В данном случае суть дела не в особенностях критической методологии, а в характере самого материала: По заведомо исключает жестко дефинитивные толкования.
Это относится и к его новеллам о Дюпене, истинном аналитике, научившем своих младших коллег, от Шерлока Холмса до Эркюля Пуаро, исходить не из правил игры, а из того, что этими правилами не предусмотрено (и тем самым указавшем основное правило детективной интриги). Более остального эти новеллы примечательны тем, как далеки от простого и обычного сами происшествия, которые в них описываются. Сюжеты представляют собой по-своему точно такие же арабески, как и мистические фантазии вроде "Мореллы". И это не удивительно: По всегда интересовало все небанальное, редкостное, взрывающее — пусть крайне необычным способом — размеренный ход повседневности и обнажающее истинный драматизм, который скрыт за ее безликостью.
"Прыг-Скок", где описан королевский шут, отплативший за годы унижения страшной местью. В герое этого рассказа не раз находили сходство с самим По, натурой демонической, обреченной, но не покоряющейся своему тягостному жребию. Таким видели его и поэты круга Верлена, и русские символисты, и тысячи читателей в разных странах. Оттенок демонизма и впрямь присущ, если не личности Эдгара По, то художнику, чей образ сохранили "Ворон" и "Улялюм", "Элеонора" и "Лигейя".
Для эпохи романтизма такой герой достаточно типичен. Однако даже и здесь По не соответствует утвердившимся канонам. Его демонизм особого рода, тот, который имел в виду Гете, когда в разговоре с Эккерманом заметил, что Мефистофель "слишком негативен, демоническое же проявляется только в безусловно позитивной деятельной силе"30. Что касается По, эта деятельная сила проявила себя способностью различать зло, какими бы масками оно ни было скрыто, и, шокируя умеренно либеральных соотечественников, напоминать о том, что действительность заключает в себе множество неочевидных, но существенных истин, которые делают сомнительной идею поступательности прогресса, разумности укоренившихся форм жизни, оправданности сложившихся социальных институтов и т. п. Назвав По "писателем не фантастическим, а капризным", Достоевский вкладывал в эти слова смысл скорее благожелательный, чем негативный: в отличие от Гофмана, который "иногда ищет свой идеал вне земного, в каком-то необыкновенном мире", По, изображая "исключительное внешнее или психологическое положение", всегда рассказывает о нем с незаурядной "силою проницательности", с "поражающею верностию", иными словами, при всем богатстве фантазии добивается правды, пусть она и впрямь страннее любой выдумки.
Это, в глазах Достоевского, не означало, что По принадлежит к числу самых значительных художников, каких знала литература. Дорожа идеалом, которого он не находил у По, но обнаруживал, "хотя и не точно поставленным", у Гофмана, предпочтение он отдавал немецкому романтику. Для Достоевского такая иерархия ценностей естественна, но она основывается на слишком спорном мнении, что По был писателем без идеала. Существенно, впрочем, признание правдивости и художественной убедительности созданных По фантастических картин. В устах выдающегося художника совершенно иных философских, духовных и литературных убеждений оно приобретает особую важность для оценки истинного вклада По в литературу.
ПРИМЕЧАНИЯ
2 Бодлер, Шарль. Эдгар По. Жизнь и творчество. Одесса, 1910, с. 41.
3 По, Эдгар. Полное собрание стихотворений. Перевод В. Брюсова. Л., 1924, с. 8.
4 Брюсов В. Собрание сочинений. В 7 тт. М., 1977, т. 6, с. 99.
5 Блок А. Собрание сочинений. В 8 тт. М. — Л., 1.962, т. 5, с. 537.
7 Подробно история отношений По с Грисуолдом освещена Ю. В. Ковалевым, давшим и разбор "мемуаров": Ю. В. Ковалев. Эдгар Аллан По. Новеллист и поэт. Л. 1984, с. 6-16.
8 Bonaparte M. E. A. Poe. Etude psychoanalitique. Paris, 1933.
9 Krutch J. W. E. A. Poe: a Study in Genius. N. Y., 1926.
10 Quinn A. H. E. A. Poe: A Critical Biography. N. Y., 1941.
12 Аллен Г. Эдгар По. М., 1987, с. 159.
13 Ницше Ф. Сочинения. В 2 тт. М., 1990, т. 2, с. 393.
14 Блок А. Собрание сочинений. В 8 тт., т. 6, с. 56-57.
15 Валери П. Об искусстве. М., 1976, с. 445-447.
17 Рое, Edgar Allan. Complete Works. N. Y., 1902, v. V, p. 122.
18 Эстетика американского романтизма. М., 1977, с. 139.
19 Wilbur R. Introduction. // E. A. Poe (The Laurel Poetry Series). N. Y., 1966.
20 Рое, Edgar Allan. Complete Works, v. X, pp. 71-80.
22 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений. В 10 тт. М., 1979, т. 10, с. 112.
23 Haines Ch. E. A. Poe. His Writings and Influence. N. Y., 1974, p. 79.
24 Версии прочтения повести охарактеризованы в кн.: Kennedy J. C. The Narrative of Arthur Gordon Pym and the Abyss of Interpretation. N. Y., 1995.
25 Рое Е. А. Complete Works, v. IX, p. 257.
—284.
28 Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. В 30 тт. М., 1979, т. 19, с. 89.
29 Барт Р. Избранные работы. М., 1989, с. 425.
30 Эккерман И. П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. М., 1981, с. 412.//. поэзия