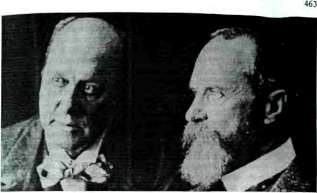
2
Относительно периодизации творчества Джеймса, охватывающего более полувека, не существует единого мнения. При этом высказанные исследователями суждения естественно воплощают их наиболее общие представления о творческой эволюции писателя. Так, рассматривая как определяющий фактор отъезд в Европу, ряд критиков соответственно разделяет первый и второй периоды именно по этой дате. Для других наибольшую значимость приобретает вопрос изменения его повествовательной манеры, так называемая проблема раннего и "позднего" Джеймса - в качестве границы между периодами выступают в этом случае эксперименты с повествовательными структурами середины 90-х годов.
Еще одна группа исследователей, исходя из принципа эстетического совершенства, отделяет ранний, "ученический", период который далее не принимается в расчет, и определяет все последующее творчество писателя, включая и последние романы, как "главный период", за пределами которого остаются, таким образом, помимо ранних, лишь его автобиографические сочинения и два неоконченных романа, опубликованных посмертно. Такая периодизация имеет тот очевидный недостаток, что, заключая в один период по существу чуть не полностью все творчество Джеймса, она требует выделения уже внутри него более мелких "периодов" и дополнительных границ. Нередко "главным" объявляется период написания "поздних" романов, вследствие чего развитие творчества Джеймса предстает как идущее по восходящей. Но имеются и прямо противоположные оценки: наиболее ценным в художественном отношении называется период, завершающийся в 80-е годы, и тогда дальнейшее развитие писателя неизбежно вырисовывается как движение по нисходящей.
Из всего многообразия высказанных по этому поводу соображений можно выделить три основных варианта, к которым в большей или меньшей степени тяготеют остальные. Как правило, творчество Джеймса подразделяется на три периода:
а) первый период завершается в середине 70-х годов с переездом за океан, второй, "зрелый", — захватывая 80-е годы, завершается на рубеже 80-х и 90-х годов, конец начавшегося в это время третьего, или "позднего" периода совпадает либо с завершением работы над "поздними" романами (середина 900-х годов), либо с концом жизни писателя:
— открывается выходом в свет романа "Родрик Хадсон" и длится до середины 90-х годов, когда экспериментами с формами драмы и романа начинается третий, заключительный период;
в) граница, разделяющая первый и второй периоды, проводится в первой половине 80-х годов XIX в.* по выходе "Портрета дамы", а между вторым и третьим, для которого характерен постепенный отход от непосредственного решения художественных задач, — в середине 900-х годов XX в., после публикации "поздних" романов.
Последний вариант периодизации творчества Джеймса исходит из становления и развития Джеймса-художника и дает наглядную картину этого движения от первых опытов до первого шедевра (1-й период), от поисков новых повествовательных форм к созданию последних шедевров (2-й период), подведение итогов (3-й период). Он наиболее отвечает представлениям о творческой эволюции писателя автора главы. Ее предмет и составляет первый период творчества Генри Джеймса, наиболее тесно связанный с литературным материалом, послужившим основой данного тома.
Ко времени переезда за океан Джеймс успел накопить довольно солидный литературный багаж. Начав с малой формы, с которой он затем уже не расставался, создав впоследствии в жанре новеллы множество превосходных произведений, он не оставлял и мысли о романе, приступив в 1869 г. к его написанию. О размахе замыслов Джеймса дают представление высказывания, проскальзывавшие в его публикациях. Так, в одной из своих заметок Генри пишет, что при виде открывшегося в Ньюпорте зрелища у "странствующего наблюдателя" на миг зарождается "мечта о великом американском романе" (5; р. 124). Судя по полному совпадению последних слов с заглавием анонимно опубликованной в 1868 г. статьи Дефореста, Джеймс показывал, что не только знаком с размышлениями собрата по перу, но и готов принять его вызов.
Рассказы, выходившие в ту пору из-под пера Джеймса, носят в целом подражательный характер, чем нередко грешат первые пробы пера. В значительной мере это вызвано неустоявшейся манерой письма — начинающий автор как бы примеривается к возможностям различных стилей, не зная которому отдать предпочтение. Одни, как "Трагедия ошибок", отмечены близостью к произведениям современных французских авторов реалистического толка, не кого-то в особенности, а именно в общем плане. В других — заметно тяготение к романтическим построениям, которое еще долго будет сопровождать Джеймса в его творческих поисках.
"Опеки и присмотра" {Watch and Ward), как озаглавил Джеймс свой первый опыт в жанре романа, началась в "Атлантике" в августе и завершилась в декабре 1871 г. Роман не избежал участи, выпадающей на долю многих ранних произведений. На нем также лежит явная печать подражания, которое, ввиду использования крупной формы, быть может, еще сильнее бросается в глаза. Тема и сюжет 'Опеки и присмотра" вызывает в памяти Диккенса, которого, едва вступив на литературное поприще, Джеймс упрекал за надуманность персонажей и ситуаций, за отрыв от жизни, а в рецензии на роман "Наш общий друг" даже дерзнул назвать "величайшим из поверхностных романистов" (3; р. 856). Оценка, разумеется, несправедливая, хотя можно понять, как из увлеченности возможностями литературы, открывшимися Джеймсу при знакомстве с творчеством мастеров французского и русского реалистического романа, возник подобный перекос.
В "Опеке и присмотре" и в самом деле появляются знакомые по романам Диккенса и десяткам других книг мотивы, персонажи и коллизии: опекун и оставшаяся без родителей бедная девочка. Пикантность разработке сюжета придает то обстоятельство, что герой берет на себя обязанности по ее воспитанию затем, что, потерпев крушение в любви, он решает вырастить для себя существо, которое не обманет его чувств. Но чувства, как выясняется, вообще не принимаются в расчет - она должна постичь превосходство своего oneкуна над всеми претендентами на ее руку и сердце, явив своим выбором торжество добродетели, хотя критерии, по которым оно определяется в ходе развития действия, далеко не всегда соответствуют идеалу нравственности.
У Диккенса, который все же не несет ответственности за "литературные грехи" Джеймса, напротив, все строится, например в "Холодном доме", если, конечно, речь идет не о злодеях, на уважении к чувствам и героини, и самого наставника. Диккенсовский опекун оказывается непроизвольно захвачен пробудившейся в нем любовью, которую мечтал бы увенчать браком. В отличие от него, герой Джеймса безотносительно к чувствам участников будущего союза задается целью, на достижение которой направлены как его собственные усилия, так и весь арсенал выразительных средств, имеющихся в распоряжении романиста, поскольку этим задано движение сюжета и развитие действия.
Помимо очевидной неопытности автора, изрядное число этих грехов следует отнести на счет влияния усердных поставщиков сентиментального чтива, выбрасывавших на книжный рынок наспех скроенные по модному шаблону романы, прельщавшие неискушенных читателей, а особенно читательниц, которому вначале в определенной мере поддался и Джеймс. Искусственность замысла и его разработки, сентиментальные и морализаторские ноты выдают крайнюю литературную неискушенность писателя, наивно полагавшегося на популярные в массовой продукции шаблоны.
"Тема довольно легковесна, но я пытался создать произведение искусства, — писал Джеймс по поводу своего первенца одному из друзей. — Его главным достоинством будет определенная форма" (9; р. 262). Стремление, разумеется, похвальное, однако, судя по письму, автор не был уверен в результате. Сама уступительная конструкция придает фразе характер оправдания. В какую сторону были направлены его усилия и в чем конкретно видел Джеймс реализацию этой задачи, роман не дает никаких указаний, помимо заметной рафинированности фразировки, из которой проистекает пышная декоративность стиля.
"Не думаю, чтобы мои рассказы показались ему мужским делом. Манера была в них явственнее существа, они были чересчур tarabiscoté*, как, я однажды слышал, он выразился о стиле одной книги, — слишком много было на поверхности цветочков и бантиков" (8; р. 1011). Правда, рассуждения эти относятся скорее к следующему роману, который Джеймс, как известно, посылал Тургеневу (и даже получил от него одоборительный отзыв), однако сам он говорит о ранних вещах в целом, без каких-либо оговорок.
Особенно страдали декоративностью первые романы Джеймса. В какой-то мере появление мишурных украшений на страницах "Опеки и присмотра" закономерно — они были данью модели, предложенной мастерицами дамской литературы, конвенциям которой Джеймс во многом следовал в этом романе. Изучение действия ее механизма, обеспечивавшего массовую аудиторию, очевидно, привлекало полного честлюбивых замыслов автора. Джеймс стремился к широкому успеху. И не только в "годы учения". Даже добившись высокого признания в избранном обществе, он чувствовал себя уязвленным узостью круга почитателей. При этом в своем увлечении риторикой утонченного иносказания начинающий романист подчас совершенно слеп и глух к эротической двусмысленности, пышно расцветающей в его книге, своего рода эвфуизму XIX в., что нередко приводит к комическому эффекту: "Желая устроить все как следует, Роджер поймал себя на мысли о том, не повредит ли — в худшем случае — легкое предварительное ухаживание. Почву можно было бы осторожно взрыхлить, чтобы она приняла его посев; если, играя, раздвинуть лепестки девичьей натуры, золотое сердце цветка станет доступнее его вертикальным лучам"14.
Особой иронии исполнен тот факт, что стремление автора к утонченности в соблюдении предписываемых викторианской моралью приличий приводит к тому, что отдельные пассажи звучат почти пародийно, преобразуясь в своего рода протоформу отделенной от романа почти целым столетием "Лолиты": "Он откинулся на спинку кресла и посмотрел на девочку — не по годам развитую, маленькую, брошенную, потенциальную женщину. <...> Он обвил рукой ее талию. Непреодолимое ощущение ее детской нежности, ее робкого обещания женственности мягко разлилось по его жилам" (14; ch. I, p. 238).
Степень доверчивости, с какой отнесся Джеймс к избранному образцу, столь велика, что он передал своему герою те мечты о будущем — и соответственно движущие пружины сюжета, — которые традиционно принадлежат героине: стремление к браку и семейной жизни. Идеал Роджера Лоуренса - "освещенная в зимний вечер лампой гостиная, спокойная жена и мать, сияющая сердечной улыбкой, златовласое дитя, а посредине — он сам, своей собственной, ощущающей это всеми чувствами персоной, опьяненный обладанием и благодарностью" (14; ch. I, p. 235). В самой этой мирной идиллии нет, разумеется, ничего зазорного, особенно если речь идет о сфере частной жизни. Другое дело — истинное содержание идеала и средства его достижения. Анализ романа с этой точки зрения представляет немалый интерес.
Достижение этого домашнего идеала составляет перипетии сюжета. Ожидания Роджера в первой попытке оказываются жестоко обмануты: возлюбленная отвергает его предложение. А его друг — он же рассказчик - спешит представить его избранницу в невыгодном свете. Ее красота, к которой, как выясняется, он и сам был недавно неравнодушен, как он утверждает, с возрастом потускнела, к тому же он не находит в ней "ничего естественного". Такое описание Изабел понятно в устах остывшего влюбленного, но никак не может отвечать чувствам и настроениям героя, который, предлагая руку и сердце, должен был бы находиться во власти ее чар.
"определенную форму", о которой он писал другу, именно в таком опережающем события уведомлении читателя о вероятных последствиях описываемых происшествий. Иначе говоря, передавая критическое восприятие другом героя юной особы, составляющей предмет вожделенных желаний Роджера, автор опосредованно показывает, что чувства героя совсем не глубоки, коль скоро полученный отказ не вызвал ни потрясения, ни отчаяния и он смог так быстро утешиться. Ведь уже в той же первой главе рассказывается о том, как он в матримониальных целях берет на воспитание девочку. Более того, когда Изабел в недолгом времени овдовела, унаследовав от покойного мужа солидное состояние, а до совершеннолетия Норы было еще очень далеко, Роджер даже не пытался воспользоваться этим, чтобы добиться ее благосклонности. Зато он предложил ей, продемонстрировав полное отсутствие душевной деликатности, чего как будто не замечает его создатель, попечение о юной воспитаннице. Впоследствии она даже выступает радетельницей интересов и ходатаем по "делу" Роджера перед взрослой Норой.
В изображении ситуации установления опеки Джеймс прибегает к в высшей степени мелодратическому повороту действия. Захваченный любовными переживаниями, Роджер отказывает обратившемуся к нему за помощью встречному. Тот в отчаянии кончает жизнь самоубийством. Его дочерью и оказывается Нора Лэмберт, опекуном которой он становится — ему невыносимо видеть, как дамы-благотворительницы выставляют девочку напоказ, обрядив в ночную сорочку, забрызганнную кровью ее злосчастного отца, надеясь таким образом собрать по подписке солидную сумму. Похвально желание Роджера избавить невинное существо от вульгарной экплуатации ее несчастья, даже если полученные средства предназначены для нее. Соответственно можно предположить, что Джеймс тем самым осуждает использование низкопробных ходов и в литературе. Нельзя, однако, не заметить несомненной двойственности его позиции, поскольку он и сам употребляет подобный прием для уловления героя и следовательно читателя.
лексике в англоязычной литературе для метафорического воплощения чувства — давняя традиция. Достаточно вспомнить знаменитую реплику Джульетты: "О сердце, разорвись, банкрот несчастный!" ("Ромео и Джульетта" Акт III, сц. 2, перев. Т. Щепкиной-Куперник. Сходно звучит та же реплика в переводе Б. Пастернака: "О сердце! Разорившийся банкрот").
У Джеймса эта образность имеет иную функцию, определяя основной побудительный мотив действий героя, а также средства достижения цели. С помощью этой операции писатель в сущности переводит стрелку действия с "женской" линии на "мужскую", превратив матримониальный интерес Роджера в "дело", причем сугубо в значении "бизнеса", с непременным участием капитала. В его отношении к Норе на первый план постоянно выходит чувство собственника, тщеславие владельца, с самого начала одержимого стремлением внушить ей "впечатление обо всем том, чем она обязана ему, и что его покровительство и забота — не просто вульгарная милостыня: он ожидает дивидендов от вложенного капитала, когда-то ей придется заплатить этот долг" (14; ch. 3, р. 323). Даже и сама Нора, начав под руководством опекуна смотреть на все его глазами, размышляет о том, что присутствие других поклонников попирает его основанное на давности "право собственности". Повзрослев, она осознает истинную природу своих отношений с наставником, ее приводит в ужас, что "Роджер, которого все эти годы она представляла простым, как сама благотворительность, оказался таким же двойственным, как проценты" (14; ch. 9, р. 689), и она безуспешно пытается спастись бегством.
Одним из самых удачных шагов Роджера в смысле капиталовложений было решение отправить Нору в Европу для получения "высшей" подготовки к предстоящей ей роли. Когда она возвращается в Америку в расцвете красоты, один из ее поклонников прозорливо определяет успех Роджера в тех же категориях политики инвестиций и собственности. В конечном счете его победа — завоевание Норы — обеспечена капиталом. Этим оружием он сокрушает соперников, каждый из которых явно превосходит его привлекательностью. Своего кузена Фентона, чья энергия, целеустремленность, мужественность противопоставлены инертности и пассивности Роджера, он дискредитирует в глазах читателя его бедностью (неспособностью обеспечить Норе столь же достойное существование, как он) и предложением отступного. Разоблачение Фентона происходит, когда он решается на обман, а затем пытается выкупить девушку. Саморазоблачением завершается линия и другого претендента на ее руку, ее кузена, священника Хью Лэмберта, проявлявшего не подобающий человеку его звания интерес к женским прелестям и богатому приданому.
"позолоченного века", опьяненного материальными ценностями, в общих чертах соответствовала живой действительности. Предлагая в романе анатомию современного (то есть буржуазного) брака как сделки, писатель был совершенно точен. Поэтому нередкие в кри-
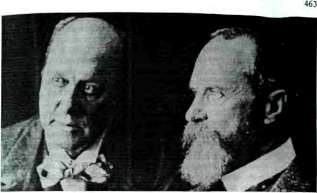
Генри и Уильям Джеймс Фотография. Ок. 1900 г.
Нарисованная Джеймсом картина американских нравов "позолоченного века", опьяненного материальными ценностями, в общих чертах соответствовала живой действительности. Предлагая в романе анатомию современного (то есть буржуазного) брака как сделки, писатель был совершенно точен. Поэтому нередкие в критике сравнения его героя с Пигмалионом15 безусловно хромают. В Роджере отсутствует бескорыстная творческая сила, которой движим герой античного мифа, равно как и личное чувство к созданному шедевру — не только восхищение мастера, но и любовь, пробудившаяся из преклонения творца перед совершенством его творения. Их вытеснил расчет инвестора, не преодолевающий начальной стадии сублимации. Однако Джеймс еще не вступает с героем в спор — его взгляд достаточно близок благодушной викторианской вере в непогрешимость устоев и морали среднего класса. Изображая действительное, писатель видит и представляет его как должное, отчего поверхность и заполняют "цветочки и бантики", что остается самым уязвимым местом "Опеки и присмотра".
Очевидно, Джеймс вскоре осознал несовершенство своего первого детища, переиздав его в виде книги лишь восемь лет спустя по материальным соображениям. Готовя роман к повторному изданию, Джеймс пытался смягчить нежелательный эффект, однако не смог устранить его и в новой редакции. Видимо, чувствуя это, он хотя и назвал роман в письме Уильяму "довольно миленьким", отзывался о нем весьма нелестно: роман, по его словам, "очень плоский и '"холоден", как ледышка"16
Желание писателя почти осуществилось: роман был прочно забыт — вспоминать его начали лишь в самое последнее время — так что право именоваться первым романом Джеймса на долгие годы перешло к "Родрику Хадсону" (Roderick Hudson, 1875), тем более, что об этом он сам объявил в предисловии, помещенном в нью-йоркском издании его сочинений 1907-1909 годов (8; р. 1040). Этот роман также первоначально печатался в журнале с продолжением, что стало для Джеймса постоянной практикой. Но в этом случае публикация книги, последовавшая в 1876 г., не заставила себя долго ждать. В том же, богатом событиями 1875 г. вышла его первая книга, новеллистический сборник, «"Страстный пилигрим" и другие рассказы"». Хотя и "Родрику Хадсону" было далеко до совершенства, писатель сделал в нем заметный шаг вперед.
Родословная "Родрика Хадсона" напрямую восходит к "Мраморному фавну" Готорна17, даже если Джеймс ставил его ниже других крупных произведений писателя и высказывал по отношению к нему немало претензий. По мнению современного американского исследователя П. Б. Армстронга, "ощущение хрупкости бытия — главное звено, соединяющее" оба романа, тогда как по большей части связь между ними видят в том, что в них изображается "в качестве фона повествования колония американских художников"18. В действительности Джеймс обязан своему предшественнику, хотя он и не следовал слепо за избранным образцом, и многими элементами повествования, и самой темой романа, которая стала одной из ведущих в его творчестве, прочно соединившись с именем Джеймса, — темой художника.
"Родрике Хадсоне" его собственным вкладом стало то, что он придал теме особый поворот. Джеймс развил в своем романе мотив, едва проскальзывавший у Готорна, хотя оба исходили из одного явления, с которым реально лично сталкивались в жизни, — это мотив враждебности искусству духовного климата США, где художник, оказавшись в положении лишнего человека, обречен этой ситуацией на жизненное поражение. Его подлинная реализация на родине невозможна В этом отношении Европа предстает прямой противоположностью Америке, где происходит действие начальных глав. Перенеся действие в Рим, Джеймс положил начало той линии своего творчества, которую принято называть "европейским" — или чаще — "интернациональным" романом.
Готорн, как и Джеймс, только, быть может, острее в силу недостаточной укорененности самой литературной традиции в культуре США ощущал свою "ненужность" как художника в поглощенной извлечением пользы Америке. Тем не менее для Готорна-писателя этого конфликта не существует, даже в "Мраморном фавне", разве что в его новеллистике найдется скромная группа произведений соответствующего профиля ("Мастер красоты"), как практически не существует его в литературе американского романтизма в целом, в которой именно Готорн ближе всего подошел к постановке проблемы противостояния художника и общества. Справедливо будет сказать, что Джеймс начал как раз там, где закончил Готорн. Он открыл в литературе США новую, неизвестную ей тему и новый конфликт, но принадлежавшие не его времени, а другой, предшествующей литературной эпохе и потому требовавшие для своего воплощения иного подхода, иных, отличных от выработанных романтиками средств и красок. Это несомненно осложняло задачу писателя поставившего в центр романа героя, который представляет собой квинтэссенцию романтизма.
Образ художника построен у Джеймса на романтической концепции личности. Отпав от погрязшего в скверне мира или отринув его, она в своей высшей ипостаси отмечена печатью особости живет в сфере чистого духа и поклоняется лишь двум святыням романтического сознания — зову сердца и игре воображения. Ей противостоит тупая, чваная, глухая к исканиям духа, безразличная а вместе с тем агрессивная толпа. Как у романтиков первой половины XIX в., знаком исключительности выступает у Джеймса творческий дар Родрика, также исключительный, гениальный. Сам тот конфликт, что дает толчок развитию действия в "Родрике Хадсоне", есть тоже конфликт романтический. Но при этом еще и европейский (в литературном смысле, разумеется), как он предстал в творчестве — и жизни — таких писателей, как Байрон, Гофман, Мюссе или... — имен можно привести великое множество.
Джеймс воплотил в Родрике романтическую личность с характерным для нее типом мышления. Его положение исходно кажется почти безнадежным. Наделенный сильным воображением и большими задатками, он чувствует абсолютную беспомощность, находясь в полной изоляции среди людей, неспособных ни понять смысла его занятий искусством, ни оценить их результаты. Благодаря счастливому стечению обстоятельств герою, однако, неожиданно выпадает исключительная возможность.
У Родрика появляется покровитель, мистер Роуланд Мэллет, из породы тех, кого в XIX в. именовали людьми положительными, человек здравомыслящий, уравновешенный, сдержанный и — что особенно важно — очень состоятельный. С некоторых пор его совсем перестало удовлетворять его пресное, подчиненное утилитарным целям существование. В нем просыпается тяга к чему-то высшему, но собственных талантов он лишен, и духовные радости, которых он жаждет, оказываются ему так же недоступны, как и Родрику. В определенном смысле развитие линий каждого из этих персонажей до этого момента приводит к дублированию ситуации безнадежности. Их соединение в пространстве сюжета позволяет преодолеть безысходность, заложенную в ново-английском эпизоде. Введением Мэллета писатель размыкает эту ситуацию: в искусстве Родрика его жизнь обретает смысл и наполненность, и становится возможна реализация его личности. Стремление к прекрасному открывает кошелек Мэллета и, проявляя невероятную щедрость, а также прозорливость относительно положения дел, он берет юношу под свое крыло. Уверовав в талант Родрика, он снабжает его средствами, необходимыми для обучения в Италии. Тема художника соединяется, таким образом, в романе с "интернациональной темой", которая в свою очередь также ведет к Готорну и становится одной из ведущих в творчестве Джеймса.
"Невозможно иметь характер более романтический, чем флоберовская мадам Бовари, и однако описание ее приключений менее всего напоминает романтическую историю" (8; р. 1064), — писал Джеймс, показывая, что прекрасно сознает диалектику соотношений объекта изображения и изобразительных средств. Но слова эти принадлежат умудренному деятилетиями размышлений и ревностного труда Мастеру. Когда создавался "Родрик Хадсон", это было ему далеко не так ясно. Познание истин было еще впереди, и этот роман запечатлел сложность перехода из одной эстетической системы (романтической) в другую (реалистическую).
Главную трудность представлял герой, ультраромантический характер которого было необходимо совместить с требованиями реалистической эстетики, органически ввести в «^романтическую историю. Отчасти это достигается обрисовкой его окружения. Родрик выделяется не только в своем сугубо прозаическом, прагматическом ново-английском обществе. Попав в Рим, он оказывается поистине в царстве пигмеев. Среди служителей муз, встречи с которыми он страстно ожидал, властвуют бескрылые ремесленники, эксплоати-рующие свои убогие навыки и умения. В пронизанном иронией описании Джеймса они выглядят деформированными, даже гротескными, напоминая тех, что, по словам Эмерсона, превратились в "бесчисленные двуногие чудовища", которые бахвалятся "то крепким желудком, то сильной рукой, но никто из них не является человеком". Так американский философ разворачивает формулу отчуждения, которую он представил в виде афоризма: "Общество — это то состояние человека, когда отдельные члены оказываются отрубленными от ствола" (10; с. 225).
В ряду таких "отсеченных членов", превратишихся "в вещь, во множество вещей": священник — "в ритуал-, стряпчий — в свод законов, механик — в машину, матрос — в корабельный канат" (10; с. 225—226), находится место и жрецам прекрасного из романа Джеймса. Одна художница, язвительно замечает автор, не умея писать лицо, изображала фигуры со спины, другой, которому не давалось идеальное, избрал предметом безобразное, третий — восполнял отсутствие таланта прилежанием. Характеристика, которую дает им Джеймс, может служить иллюстрацией в лицах и картинах горьких слов Эмерсона, обращенных к современному искусству: "Пьют и едят, чтобы потом служить идеалу. Так компрометируется искусство; само это слово удерживается в памяти лишь в своем вторичном, плохом смысле; ... нечто противоположное природе и с самого начала отмеченное печатью тления" (10; с. 279).
Необыкновенный дар и подлинное вдохновение Родрика поднимают его над толпой ремесленников, по существу таких же поденщиков на ниве "презренной пользы", как и их чуждые всякого художества ново-английские собратья. Творческая энергия и гений увлекают его в высшие сферы, куда не дано подняться самым искусным из окружающих его имитаторов творчества. В этом вознесении в эмпиреи Родрик, как и положено романтическому художнику, не столько продвигается к вершине собственными стараниями, сколько движим главной силой романтического искусства — воображением, нередко облеченным в форму сна.
"Гений — это своего рода сомнамбулизм. Во сне художник вершит великие дела"19— мысль звучит плоской банальностью. Мечту о таких "великих делах" и лелеет Родрик, хотя в ходе развития действия выясняется, что понимает он ее чересчур буквально: он не творит, а ждет подсказки из сна, подолгу пребывая духом в состоянии праздности. "Для меня — или все, или ничего. <...> Я намерен заняться большими вещами; таково мое представление об искусстве, — витийствует герой. — Я намерен создавать вещи, которые будут простыми, огромными, бесконечными! Бесконечными, вот увидите! <...> Я намерен снова всколыхнуть мир!" Его планы звучат, как грандиозная романтическая программа: "Это будет Красота; это будет Мудрость; это будет Сила; это будет Гений, это будет Отвага. <...> И к тому же — все Силы, все Стихии, все Тайны Природы. Я намерен создать Океан и Горы, Луну и Западный ветер! Я намерен создать великолепную статую Америки!" (19; pp. 94-95).
В похожих на заклинания словах Родрика бросается в глаза не только обилие больших букв и восклицательных знаков, но прежде всего отсутствие подлинно художнического видения. Скорее в них говорит страстная жажда славы, признания, потрясения основ мира. Это не творческие замыслы, сколь угодно туманные, не прозрения неведомых форм, а велеречивая риторика, подменяющая, вытесняющая словом само творчество. Превращаясь в пустое, не обеспеченное реальными достижениями бахвальство, она по сути мало чем отличается от разглагольствований распираемого самодовольством Сайласа Лэфема, несмотря на "низкий" предмет гордости хоуэллсовского героя — производство красок. Извиняет Родрика лишь его юность и неопытность. Но прежде всего эти промахи надо отнести, конечно, на счет автора, не сумевшего убедительно воплотить противоречивость натуры героя.
Оборотной стороной "энтузиазма" Родрика, как выражались романтики начала XIX в., оказывается духовная слабость, лень, инертность, эгоизм, пристрастие к словесным полетам фантазии в ущерб реальному творению. Вспышки экзальтации, вдохновенные порывы в будущее, в неизвестность сменяются у него не менее острыми приступами сомнений в своих силах и отчаяния, вызванными неуверенностью, страхами, которые порождают бессилие, погружают в бездействие, в гнетущее состояние апатии. И это не безразличие художника к мнению черни, которое усиливает его сопротивление "толпе", подвигает на упорное продолжение начатого, а полная безучастность, подобная летаргическому сну души.
Резкие перепады настроений как раз и выявляют романтическую концепцию личности, составляющую основу образа героя. Подобно множеству предшественников, Родрик носит в себе своего двойника. Алгоритм постоянных взлетов и падений, отмечающих переходы и колебания между "дневной" и "ночной" сторонами его личности, заложен в нем изначально и приобретает новый импульс с появлением еще одного персонажа — Кристины Лайт.
Эта холодная красавица, пресыщенная всеобщим поклонением, заносчивая и тщеславная, равнодушно играющая сердцами и судьбами, изменчивая и склонная к интригам, предстает на страницах романа в ореоле таинственности. Внебрачная дочь аристократа, о чем она вначале и не подозревает, Кристина не догадывается, что ее свобода призрачна и что своей экстравагантностью она лишь играет на руку матери, выставившей ее на светское торжище в поисках подходящей партии. Ее привлекает исключительность Родрика — его "гений", а также то, что в отличие от остальных он, хотя и ослеплен ее красотой, не поет ей дифирамбов. Родрик мгновенно очарован ею, вернее сказать, "увлечен", так как в силу крайнего эгоцентризма, как и она, не способен на подлинное чувство, и, конечно, забывает оставленную в Америке невесту, Мэри Гарленд. Состояние влюбленности героя передается в романе привычным чередованием взлетов и падений, причина которых — уже не искусство, а отношения с Кристиной. "В действительности это вовсе не любовь, — замечает П. Б. Армстронг, — а соперничество двух "законченных эгоистов", если воспользоваться определением, которое дает Родрику Роуланд, слишком сосредоточенных на себе, чтобы заботиться о Другом, кроме как в том смысле, в каком Другой служит "я" (18; р. 83).
с ним по степени таланта, окончательно отходит на второй план. Вместо нее во всю ширь развертывается тема романтической личности, решение которой во многом уязвимо в силу смешения романтических и реалистических принципов. Не остается, кажется, ни одного элемента романтической структуры образа или действия, которых бы Джеймс в том или ином виде не использовал в этом романе. Примечательна традиционная для романтического сюжета парность женских образов — неотразимой бездушной красавицы Кристины и некрасивой, но серьезной, преданной и добродетельной Мэри. Прокомментировав эту ситуацию в предисловии 1907 г., писатель фактически признал свою зависимость от схемы. Ему был необходим контраст, а антитеза, пишет Джеймс, может быть эффективна лишь в том случае, если она "прямая и полная. Она не была бы прямой, не будь Мэри, так сказать, "некрасива", поскольку в сущности Кристина так ярко "расцвечена", и, видимо, была бы неполной, будь Мэри к тому же и бессильна" (8; р. 1052)
Ситуации зачастую выглядят надуманными, "подстроенными" то есть возникающими по воле автора из нагромождения случайностей и совпадений, а не вследствие развития отношений героев с их окружением, чувства — неестественными, о чем опять-таки много лет спустя честно сказал сам Джеймс, обратив внимание именно на расхождение с эстетикой реализма. Производимое романом впечатление не соответствует "нашему чувству правды и пропорции". Указав ряд просчетов, Джеймс поясняет: "Все происходит слишком методично и движется слишком быстро; распад Родрика, процесс постепенный, интерес которого, с точки зрения изображения, в том и состоит, что он постепенный и растянут во времени, а потому его можно наблюдать и прослеживать, поглощает два года одним махом, занимает не годы, а месяцы и недели, нанося тем самым ущерб целому, представляя его (Родрика — М. К.) в качестве, кажется, особенно болезненного случая", тогда как это не должно было "ни на миг заслонять также его типичности (принадлежности к общему типу)" (8; pp. 1048, 1047).
Наиболее существенным среди замечаний Джеймса было утверждение, что несмотря на заглавие, не Родрик является в романе главным объектом. Центром, к которому стягиваются все нити повествования, выступает "сознание Мэллета, и драма есть драма именно его сознания", — пишет Джеймс. Смысл составляет «то, что "произошло" с ним, другими словами, все его приключение; но коль скоро то, что происходило с ним, состояло в том, чтобы чувствовать, что происходит с другими,... красота конструктивной игры заключалась» (8; р. 1050) в определении ценности их историй для Мэллета. Так видел своего "Родрика Хадсона" создатель повествовательных структур, осложненных теориями "светильников" и "точки зрения". "Молодой вышивальщик по канве жизни" (8; р. 1041), как называет себя в предисловии Джеймс, экспериментировавший с формой романа, интуитивно заложил в фигуре Мэллета вкупе с анонимным рассказчиком из его первого романа краеугольный камень своего будущего повествования. В известном смысле он обязан этим прежде всего сохранившимся связям с романтизмом, где герой, по словам И. А. Тертерян, "не только и даже не столько действует, сколько наблюдает за собой и анализирует себя и в то же время становится объектом анализа либо со стороны других персонажей, либо со стороны автора"20.
Джеймс как будто лишь перенес акцент внутри готовой структуры, но тем совершенно изменил ее смысл. Персонаж, занимающий в событийном ряду весьма неприметное место, освещаемый отраженным светом и в свою очередь наделенный "отражающей" способностью, своего рода "рефлектор" (если итти от функции — не более, чем "средство", "прием"), выдвигается в итоге на роль "центрального" сознания, превращаясь в несущую конструкцию композиции. Создавая "Родрика Хадсона", Джеймс еще не мог в полной мере воспользоваться своим открытием, возможно, теоретически даже и не осмыслил его. Оформившись со временем в теорию "точки зрения", разрешившую проблему всезнающего автора, оно сыграло большую роль в его дальнейшем творчестве.
Джеймс продолжил эксперименты в этом направлении в своем следующем романе, "Американец" (The American, 1877). Кстати, он также — третьим по счету — выдвигался исследователями в качестве первой значимой вехи в его творчестве. Так, автор биографии писателя Ф. У. Дюпе определяет "Американца" как первый великий роман Джеймса, противопоставляя его "Родрику Хадсону": последний, по его мнению, — всего лишь "музейный экспонат, ... обладающий несколькими весьма большими достоинствами, но мертвый в сердцевине"21
"Американец" был первым романом, созданным после переезда писателя в Европу. В новой для Джеймса ситуации контраст Европы и Америки, оставшийся на периферии "Родрика Хадсона", приобрел особую остроту, определив имеющую программный характер главную тему романа. Ее значимость проакцентирована самим заглавием книги. Этот контраст подчеркнут также именем героя — Кристофер Ньюмен. Если распространенное имя "Кристофер" вовсе не обязательно вызовет у каждого ассоциации с первооткрывателем Америки, то смысл фамилии "Ньюмен" вряд ли ускользнет от внимательного читателя. По замыслу Джеймса, герой является в Европу именно как представитель нового мира, сложившийся в условиях "американского эксперимента", как "новый человек", свободный от груза традиций, носитель не отягощенного предрассудками Старого Света "нового" сознания. В свете заданного контраста можно увидеть определенный символический смысл в провале попытки героя, которым завершается роман, вступить в брак с наследницей старинного аристократического рода, вернее, двух — французского по отцу и английского по матери. Союз Ньюмена, "нового человека", и Клер де Сентре, вскормленной традициями, коренящимися в далеком прошлом, — союз Америки и Европы — оказывается невозможен. Так он и виделся Джеймсу, который во время журнальной публикации романа упорно сопротивлялся уговорам Хоуэллса, советовавшего привести книгу к счастливой развязке.
Писатель мыслил центральный конфликт обобщенно — не как столкновение отдельных личностей, а как противостояние общественных систем. В этом плане его отношение к наследственной аристократии согласуется в целом с воззрениями отцов-основателей США и современной ему демократической позицией. Недвусмысленно говорят об этом замечания в предисловии к роману в "нью-йоркском издании". С большой теплотой вспоминая о работе над "Американцем , когда он, по собственному признанию, "с восторгом" размышлял над своим новым детищем и был "более обычного влюблен" в замысел, Джеймс утверждал, что не было другого случая, когда его "тема могла показаться настолько способной позаботиться о себе". Вместе с тем он подчеркивал там антиаристократическую направленность романа. Героем выступает оказавшийся "в аристократическом обществе некий энергичный, но гнусно обманутый соотечественнник, с которым обошлись жестоко, по-предательски: особый смысл в том как раз и состоит, что страдать он должен был по милости людей, претендовавших на то, чтобы представлять наивысшую цивилизацию, какая только возможна, и того рода, что во всех отношениях превосходит его собственную" (курсив мой. — М. К; 8; pp. 1054, 1053, 1054).
"Американце" критика анахронической, изжившей себя системы перекликается с аналогичным по сути ее разоблачением в творчестве Твена, хотя и выраженным в совершенно ином художественном ключе — через преувеличение, гротеск, — порождавшим в свою очередь немало недоумений. Коль скоро иерархия не свойственна американскому обществу, не борются ли писатели с ветряными мельницами, уходя от насущных задач? Вне этой подразумеваемой обоими оппозиции: демократия, равенство — иерархия, аристократия, представленные соответственно Соединенными Штатами и Европой, Новым и Старым Светом, — понять и по достоинству оценить многие их произведения невозможно. Для "Американца" данная тема особенно существенна.
Основной сюжет "Американца" развивается вокруг матримониальных планов героя, то есть вновь по "женскому" варианту, как в "Опеке и присмотре". Автора не занимает путь самоутверждения Ньюмена, самостояние его личности, его испытание в столкновении с миром — эта часть, составляющая предысторию героя, в романе полностью опущена. На этот счет Джеймс ограничился лишь несколькими замечаниями вскользь, к которым нам еще предстоит вернуться. Несмотря на четко поставленную цель, Ньюмен не затрудняет себя долгими поисками, воспользовавшись советами жены давнего приятеля, миссис Тристрам. В более традиционном и "простом" обществе ее роль можно было бы определить как роль своего рода свахи. Она задолго до их знакомства называет Клер, подругу по годам учения в католическом монастыре, как наиболее подходящую кандидатуру для осуществления планов Ньюмена, а также в подробностях описывает ее ("расхваливает товар") и ее ближайшее окружение. Если и создается впечатление трудности выполнения задачи, это лишь разжигает интерес. Миссис Тристрам выступает, таким образом, в качестве комментатора событий, хотя и не главного. Эта роль отведена Ньюмену.
Мать Клер, мадам де Бельгард, женщина властная и непреклонная, а вслед за ней и остальные члены семьи сначала довольно благосклонно смотрят на этот союз. Однако, хотя Ньюмена и принимают в их доме и даже представляют свету в качестве претендента на руку Клер, в конце концов он без объяснений получает отказ. Исходит он не от Клер, которая готова связать с ним свою судьбу, а от ее матери, сторону которой безоговорочно принимает старший брат Клер. Она, хотя и огорчена, не смеет противиться их решению. Неопределенность относительно ее чувств обусловлена в романе аристократическим воспитанием, не допускающим открытого, непосредственного выражения движений души. Но главное — ее воля, сама ее личность уже были однажды безжалостно растоптаны: не считаясь с ее чувствами, Клер выдали за мерзкого, однако титулованного старика. Она не получила свободы и после его смерти и теперь, чтобы избежать повторения подобного насилия, удаляется в монастырь.
Финал романа носит двойственный характер. Ньюмен не желает сдаваться, тем более, что у него в руках оказывается письмо покойного господина де Бельгарда, способное обеспечить ему победу над заносчивыми аристократами. Он уверен, что страх заставит их изменить решение, но в последний миг меняет его сам: понимая, что Клер не вернуть, он отказывается от мести. Герой не достиг своей цели, в силу чего в плане материально-практическом потерпел поражение. Однако само оно без сомнения означает нравственную победу Ньюмена, эффект которой несколько снижают мелодраматические повороты сюжета. Именно ее имел в виду Джеймс, когда говорил, что герой "получит возможность возмездия, а затем откажется от вульгарного наслаждения им, наслаждения своим торжеством. Он будет готовить, и вынашивать его, и чувствовать его сладость, а потом, в самый момент его осуществления с отвращением пожертвует им". Поясняя далее свой замысел, Джеймс подчеркивал: "Все, что в итоге ему оставалось бы, это, стало быть, просто нравственное преимущество, поистине нравственная необходимость его практического, но неоцененного великодушия, и последнее впечатление, которое он оставлял бы, заключалось бы в том, что это сильный человек, безразличный к своей силе, слишком поглощенный тонкими, и, главное, слишком поглощенный другими и более глубокими размышлениями, чтобы отстаивать свои "права" (8; pp. 1054, 1055).
Противники Ньюмена — люди, закосневшие в своих предрассудках, из верности которым они приносят в жертву счастье близкого человека (дочери и сестры). Джеймс характеризует их самым негативным образом. Это махровые консерваторы, страшащиеся перемен, чопорные и высокомерные, почитающие этикет высшим творением цивилизации, ностальгически погруженные в прошлое, которое они хотели бы — но бессильны — продлить в настоящее и будущее. Потеряв способность развития, они застыли в характерных позах былых времен, словно фигуры, настигнутые врасплох кипящей лавой, или превратились в подобие заводных кукол, утратив естественность и эластичность живых существ. Но это не просто холодные, черствые или даже жестокие люди. Джеймс представляет их преступниками: мадам де Бельгард и ее старший сын, Урбан, виновны в гибели главы семейства.

"Розовый шарф". Ок. 1892-1895 г.
столько внимания его внутреннему расслоению. Это еще не распад, но уже, пусть и отдаленное, предвестие конца. Младшие в роду — Клер и Валантен — лишены аристократического гонора, не хотят цепляться за старые порядки. Они очень слабы и неспособны на бунт против традиционного уклада, подкрепляемого незыблемым авторитетом старших, но уже готовы итти навстречу переменам. К ним примыкает образ взбалмошной, недалекой, но не лишенной остроумия и по-своему привлекательной маркизы де Бельгард, жены Урбана, изнывающей от скуки в обществе, где достоинство измеряется длиной родословной и знанием этикета, и интересующейся только развлечениями и туалетами. От нее тянутся нити к отмеченным острой характерностью и овеянным юмором очаровательным образам молодых женщин — Бланш Эванс ("Доверие"), графини Джемини, сестры Гилберта Осмонда ("Портрет дамы"), и другим, в которых ярко проявилось мастерство лепки характера.
Именно через образы Клер и Валантена Джеймс показывает, что аристократия враждебна не только по отношению к пришельцам, нарушающим привычный покой, но и к собственным юным отпрыскам, если они не желают загонять свою жизнь в предустановленные, давно окостеневшие формы. Оба лишаются жизни в прямом или переносном смысле слова: Клер уходит в монастырь, Валантен гибнет на дуэли. Их судьбы в изображении Джеймса — порождение пороков цивилизации, покоящейя на предрассудках. Впрочем, оба эти мотива (монастырь, дуэль), а также их негативное истолкование достаточно традиционны для произведений американцев, затрагивающих тему Европы, их можно обнаружить уже в сочинениях XVIII в. Что касается мотива монастыря, он не слишком глубоко осмыслен романистом, который придерживается распространенного в США взгляда, берущего исток в идеологии протестанства: уходя в глубь веков, он связан с обличением католичества не только в эпоху Просвещения, но и Реформации.
передающей отношение автора к составляющему ядро романа противостоянию демократии и аристократии. Особенно пронизаны иронией описания персонажей, представляющих аристократический мир, и светских визитов и приемов (гл. 12, 16, 25 и другие), где канва повествования расцвечена замечательными, исполненными сарказма мини-портретами господ, "beaux noms"**, объединяемых мыслью, что "нынешний век прогнил насквозь"22. Вот один из серии таких портретов: "Дама и впрямь напоминала кумира, которому поклонялись в каком-нибудь идолопоклонническом капище. Она была монументально дородна и невозмутимо безмятежна. Ньюмену ее вид показался чуть ли не устрашающим; он с тревогой отметил тройной подбородок, сверлящий взгляд маленьких глаз, огромный простор обнаженной груди, колышущуюся тиару из перьев, сверкающую драгоценными камнями, и необъятную окружность атласной юбки" (22; р. 192). Подобные масштабно развернутые картины нравов, впервые созданные именно Джеймсом, служили впоследствии основой для обрисовки светского общества в романах Фицджеральда ("Великий Гэтсби", "Ночь нежна") или Томаса Вулфа.
— он, как уже говорилось, выступает в качестве основного комментатора, "центрального сознания", сквозь призму которого раскрывается все происходящее. Всех персонажей и вес события мы видим его глазами, мерим его меркой, оцениваем по его критерям. Иначе говоря, являясь действующим лицом, он несет в романе еще и конструктивную функцию.
Ньюмен во всем — полная противоположность Бельгардам. Если у них предлинная родословная (их парижский особняк датирован 1627 годом, а родовой замок и того древнее), у него она вообще отсутствует. Если о них известно все, вплоть до семейной тайны — к развязке она стараниями героя выходит наружу, — его прошлое, даже совсем недавнее, тонет в тумане авторских недомолвок. Бесполезно пытаться узнать, кем были его родители, в каком доме он вырос, что это за семья. История Ньюмена начинается не с рождения, а прямо с четырнадцатилетнего возраста, когда однажды "нужда взяла его за хрупкие юные плечи и вытолкнула на улицу добывать себе в этот вечер ужин" (22; р. 20). С тех пор борьба за существование составила содержание всей его жизни вплоть по окончания Гражданской войны. Завершив ее в чине бригадного reнерала, он, однако, так и не выбился из бедности.
"безродность" начинающаяся с нуля родословная — отнюдь не следствие недосмотра со стороны автора. Они лишь подчеркивают архетипичность его образа как американца, человека, который, как говорится, "сам себя создал". В подкрепление Джеймс прямо отсылает к классическому персонажу истории, Бенджамину Франклину, который вступил на путь успеха в тот день, когда впервые шел по улицам Филадельфии с купленной на последние деньги булкой под мышкой. Цитируя таким образом национальную историю, Джеймс предлагает воспринимать и историю своего героя в той же парадигме. Рассматривая ее, стоит обратить особое внимание на даты. Война закончилась в мае 1865 года — действие романа происходит ровно три года спустя, в мае 1868 года. В положении Ньюмена за этот небольшой срок произошла головокружительная, поистине сказочная перемена. Ему удалось неким образом переломить судьбу: он разбогател, притом настолько, что смог оставить дело и пуститься в дальние странствия, отправился в Европу — и не с какой-либо практической целью, а затем лишь, чтобы увидеть мир, развлечься, слушать музыку, ходить по театрам и музеям.
Джеймс хранит молчание о том, как совершилось преображение героя, однако предлагает объяснение причин: "... единствення цель ; по его собственному разумению, для того он как раз и был приведен в этот мир, чтобы у непокорного случая, и чем больше, тем лучше. Эта мысль заслонила весь его горизонт и удовлетворила его воображение" (курсив мой. — М. К.; 22; р. 21). Очевидно соединение здесь субъективного (волевого) и объективного (подчинение предустановленному порядку) начал, повторяющее ситуацию первого романа Джеймса: по убеждению Роджера Лоуренса, он был создан для брака. Механизм остается, однако, не раскрытым. Для писателя, незнакомого с миром бизнеса, дать его конкретное воплощение было невозможно. Он был вынужден прибегать к формулам самого общего типа, звучащим подчас загадочно и даже таинственно. Предваряя краткий экскурс в прошлое Ньюмена, Джеймс пишет: "Это была специфически западная история" (22; р. 20), поясняя далее, что нет необходимости посвящать в нее читателя. Указывая на Запад как место и исток обогащения героя, он совершенно точен — только там можно было тогда в столь краткий срок "сделать" такие баснословные деньги. Почти теми же словами определит историю своего Гэтсби Фицджеральд, однако, в отличие от Джеймса, он проследит ступени его восхождения к вершинам богатства.
Как "специфически западная" история Ньюмена, впрочем, также не получает конкретного наполнения. Характер героя и примечателен отсутствием в нем, как было давно отмечено, каких-либо особо "западных" черт. В свое время Ф. Р. Ливис довольно критически отзывался об "идеализации" Ньюмена, по его мнению, "романтической, нереальной, смехотворной"23. Критика была одновременно и справедливой, и не совсем точной. Типичные черты человека "западной породы": выговор, россказни, привычки, склонности, жизненные навыки, а также обстоятельства, эти черты породившие и дающие максимальные возможности для их развития, — в образе Ньюмена действительно не проявляются.
"простаков" американец с Запада побывал уже и за границей, и следы его пребывания в Европе, великолепно запечатленные Твеном, еще не стерлись из памяти. Материал этот был знаком Джеймсу лишь по чужим разработкам; писатель прекрасно сознавал, что на литературной карте Америки этот участок был уже "застолблен" и на нем подвизалась целая армия старателей. Элементарное понимание риска, которому он подверг бы себя, ступив на "чужую территорию", по-видимому, удерживало его от этого шага. Что это тем не менее было теоретически возможно, доказывает образ Рэнсома в "Бостонцах" (1886). Воссоздание манеры и стиля поведения южанина потребовало от Джеймса, который поразительно предугадал в нем стилистику Фолкнера, выхода за пределы родной Новой Англии. На Юге литературная территория была, однако, свободна, и, работая с "чужим" материалом, он мог чувствовать себя в относительной безопасности.
"Западник" был необходим Джеймсу, поскольку лишь в этом регионе мог он, согласуясь с исторической действительностью (то есть, в соответствии с параметрами реализма), найти тип, отвечающий двум непременным условиям: мгновенного обогащения, допускающего праздную европейскую интерлюдию, и полной неотесанности, невинности "дикаря" в светском салоне. Критики ошибаются, утверждая, будто Джеймс вывел "тонкого наблюдателя" (sensitive observer)24 — Ньюмен не был готов к этой роли в силу условий своего формирования. Как раз наоборот, ничего тонкого в нем нет. Образ Ньюмена на самом деле имеет аналогом вольтеровских Задига или Простодушного, китайца Гольдсмита, перса Монтескье. Он судит о европейском обществе с позиций неискушенного, наивного, не посвященного в тонкости цивилизации простака, который подмечает бросающиеся в глаза несообразности, чужака, отделенного от предмета суждений происхождением, воспитанием, жизненным опытом, всем комплексом идей и представлений, заключенных в понятии "американец", персонаж, не многим менее экзотический в европейском романе XIX в., чем разгуливающие по страницам романа XVIII в. выходцы с некоего вымышленного Востока. "Американец" подтвеждает наличие более тесной, чем в Европе, связи американской литературы с предшествующими периодами, в частности с эпохой Просвещения, притом не только в идеологии, но и в художественных структурах. Оттого образ приобретает условные черты не вполне согласующиеся с требованиями реалистической эстетики
В полной мере это справедливо и в отношении романтизма Романтическими по прошествии лет Джеймсу представлялись не только любовные помыслы героя, но и многие звенья сюжета и обстоятельства. Часть запечатленных в "Американце" "романтических" черт связана со стремлением человеческой натуры к идеальному, другая же непосредственно связана с романтизмом как литературным методом и "романтическим романом" как формой (romance). В частности, Джеймс считал таковым полученный Ньюменом отказ. "Мы возражаем не против вашей натуры, — заявила мадам де Бельгард, — а против вашего происхождения. Мы не можем принять человека, занятого коммерцией" (22; р. 224).
— "положительно набросились бы на моего богатого и покладистого американца и ни в малейшей бы степени не имели ничего против каких-либо его недостатков" (8; р. 1066). В реальной жизни, вероятно, случалось и то, и другое, но как доминирующая тенденция заключение полюбовной сделки было все более распространенным явлением. Ко времени выхода нью-йоркского издания Джеймс как художник уже создал вариант подобного сюжета в своем последнем романе "Золотая чаша" (1904), основанном на "покупке" в браке итальянского князя. В своей интерпретации "Американца" писатель, очевидно, (скорее всего бессознательно) исходил из всей полноты своего творческого опыта и смотрел на это раннее произведение как автор, многие годы спустя повторно использовавший его коллизию и обнаруживший скрытые возможности ее развития. Парадоксальным образом ее разработка в "Золотой чаше", начинаясь с такой "развязки", совпадает с пожеланиями Хоуэллса относительно счастливого финала "Американца". Однако возможность хэппи-энда в этом раскладе выглядит еще сомнительнее.
В "Американце" выбор романтического варианта сюжета ведет к появлению и других элементов романтического повествования. Разоблачение злодеев не обходится без осложнения действия таким стандартным набором принадлежностей готических, приключенческих, квазиромантических сочинений разного рода, как роковая тайна, владение которой сулит Ньюмену успех, упомянутое письмо, незримый свидетель преступления — служанка, сохранившая верность добропорядочным устоям старой Англии, свидание в сумерках, вьющаяся по круче тропинка и прочее.
"идеальная", но и реальная сущность американца (и как личности, и как национального типа). Определяет в нем все деловая жилка,' хватка бизнесмена, сосредоточившего в своих руках огромные капиталы, а вместе с тем и власть. И если происхождение богатства, способы его добывания оставались для писателя тайной за семью печатями — изображение деловой сферы жизни героя как бы вынесено в романе за скобки (анализ этой стороны американского бытия и личности был проделан писателями другого поколения во главе с Драйзером), то осмысление его воздействия на человеческую психику и поведение шло на глубоком уровне. С пристальным вниманием рассматривает автор личные отношения героя, художественное исследование которых ведется согласно принципам реализма. Прослеживается динамика развития его личности, внутренние состояния соотносятся с обстоятельствами, которые их вызвали или возникли вследствие совершенных под их влиянием поступков.
В Европе Ньюмен открывает не только иерархическое устройство общества, но и неведомый ему мир культуры и искусства, вновь оказавшись в положении Простодушного, не имеющего понятия, как к ним подступиться. Это дает важную краску для определения его характера. Но если в первом случае простота Ньюмена оценивается положительно, его духовная и эмоциональная неразвитость часто вызывает у автора критическое отношение и насмешку. Джеймс, однако, далек от того, чтобы изничтожать героя за его эстетическое невежество — для него это не символ отсталости, а скорее бескрайняя территория будущих завоеваний, потенциал расширения его духовных границ. Писатель оптимистически смотрит на возможность духовного преображения Ньюмена, проявляя по сути приверженность взглядам, высказанным десятилетием ранее в приведенном выше письме. Поэтому в отличие от Бельгардов — и оно носит принципиальный характер — Джеймс выражает свое отношение к герою посредством юмора, нигде не переходя к иронии, которую сохраняет для обрисовки аристократического общества, чисто художественными средствами проводя водоразадел между персонажами и тем проясняя конфликт.
Для этой очаровательной юной особы публичная демонстрация ее более чем скромных талантов живописца -лишь крючок, на который она подцепляет доверчивых богатых чужеземцев, ничего не смыслящих в искусстве. Одним из них, видимо, предстояло стать и Ньюмену: он не только покупает у нее, многократно переплатив, дрянную копию шедевра и делает огромный заказ на серию работ того же достоинства, но и постоянно с обезоруживающей наивностью наставляет ее отца, у которого берет уроки французского, относительно подстерегающих бедную девушку опасностей и отступлений от правил добропорядочности которыми она самонадеянно пренебрегает. Вся эта линия исполнена пикантного юмора, проистекающего из полного непонимания Ньюменом двусмысленности ситуаций, в которых он оказывается пока он не уразумел, наконец, в связи с дуэлью и гибелью Валантена истинного положения дел. Образ мадемуазель Ниош следует также отнести к числу открытий Джеймса, обозначивших новый рубеж в литературе США. Строго придерживаясь викторианских заветов, она вообще избегала, быть может, за исключением Готорна (в виде легкого намека в рассказе "Мой сродственник, майор Молинё", например, и некоторых других), касаться подобных тем.
Душевная и духовная неразвитость Ньюмена во многом искупается "старыми" добродетелями: простодушием, искренностью, открытостью, незлобивостью, доверчивостью, которых он ожидает и от остальных. Но эти реликты прошлого сочетаются в нем с вполне современными, программно "американскими" чертами: практицизмом, расчетливостью, деловой хваткой, обеспечившими его финансовую победу. Они не могут не настораживать, когда теми же принципами он руководствуется и в достижении личного счастья, которое, по мнению многих критиков, выглядит вульгарной "покупкой жены"25. С таким определением трудно не согласиться. Ведь человек, у которого, по собственному признанию, "никогда не было времени, чтобы чувствовать что-то", которому приходилось "делать их (деньги — М. К.), чтобы заставить почувствовать себя" (22; р. 31), сам подтверждает это. Долгий разговор Ньюмена с миссис Тристрам на тему женитьбы завершается поистине поразительным откровением: "Мне нужна отличная женщина. На этом я стою. <...> Для чего еще я тогда бился и корпел все эти годы? Я добился успеха, и что мне теперь с этим успехом делать? Чтобы он стал совершенно полным, нужна красивая женщина, которая сидела бы на этой груде, как статуя на пьедестале. <...> Я много могу дать своей жене, так что я не боюсь и сам требовать многого. <...> Словом, я хочу получить " (курсив мой. — М. К.; 22; р. 35). Трудно представить более красноречивое саморазоблачение, чем введение Ньюменом метафоры рыночного товарообмена, пусть и окрашенной легким юмором, для выражения своего понимания идеального союза.
Подобный ход мыслей героя — готовая канва комедии нравов, в русле которой в основном развивается действие романа. Но писатель не выдерживает в нем чистоты жанра. Широко прибегая к элементам квазиромантического и готического романа (romance), он насыщает действие мелодрамой, которая доминирует во второй половине книги, особенно к финалу. Сравнивая ранние и поздние произведения Джеймса, Грэм Грин определял их различие как степень художественного проникновения в природу зла, которое считал главным побудительным импульсом всего его творчества. "...(Д)вижение от "Американца" к "Золотой чаше", — пишет Грин, — это движение от довольно примитивной символизации самой истины: движение от зла, воплощенного в довольно очевидной форме убийства, к злу in propria persona***, разгуливающему по Бонд-стрит, очаровательному, образованному, тонко чувствующему, — к злу, отличимому от добра главным образом законченным эгоизмом своих воззрений"26.
Несмотря на утверждение реализма в литературе США в последние десятилетия XIX в., влияние романтизма на американский роман в целом, как известно, не прекратилось. "В своей самой оригинальной и характерной форме, - писал глубоко изучивший эту проблему Р. Чейз, — американский роман выковал свою судьбу и определился сам, вобрав в себя элемент романтического романа"27. Творчество Генри Джеймса не составило в том исключения, что подтверждается всем его последующим развитием.
* чрезмерно украшены, вычурны (фр.).
** знать (фр.)
*** собственной персоной (лат.).
™ James. N. Y. a. o., Peter Lang, 1988, p. 27. y ln Hellry
16 James, Henry. Letters. Ed. by L. Edel. L., Macmillan, 1978, v. II p 157
17 Проблемы влияния Готорна на творчество Джеймса касались многие исследователи, писавшие как о том, так и о другом авторе. Среди работ специально посвященных различным аспектам связи творчества Джеймса с наследием его предшественника, можно, например, назвать: Greenwald, Elissa. Realism and the Romance: Nathaniel Hawthorne, Henry James, and American Fiction. Ann Arbor, Michigan, Univ. Microfilms Research Press, 1989; Auerbach, Jonathan. The Romance of Failure: First Person Fictions of" Рое, Hawthorne, and James. N. Y., Oxford, Oxford Univ. Press, 1989. Интересно трактуется этот вопрос в книге Р. Э. Лонга, который доказывает, что именно "Родрик Хадсон" в своей структуре, обрисовке персонажей, образной системе обнаруживает, помимо того, сильное влияние Тургенева. См.: Long, Robert Emmet. The Great Succession: Henry James and the Legacy of Hawthorne. Pittsburgh, Univ. of Pittsburgh Press, 1979, pp. 39-43. Показательно, что Элиот, строивший, исходя из собственных задач, образ Джеймса как писателя, отряхнувшего прах американской провициальнос-ти со своих ног, категорически отрицал всякое влияние Готорна на его творчество. "В отношении влияния в случае с Готорном оно не представляло ничего более значительного, нежели относительно других фигур фона, — писал он в упоминавшейся выше статье 1918 г. — Джеймс мало, очень мало чем обязан кому бы то ни было; есть ряд писателей, которых он изучал намеренно, Готорн — не из их числа". Eliot T. S. "The Hawthorne Aspect"// Critics on Henry James. Ed. by J. Don Vann. Coral Gables, Univ. of Miami Press, 1972, p. 34.
19 James, Henry. Roderick Hudson. Harmondsworth, Middlesex, Penguin, 1969, p. 39.
21 Dupee F. W. Henry James. N. Y., William Morrow, 1974, p. 74.
23 Leavis F. R. The Great Tradition. L., Chatto and Windus, 1948, p. 142.
24 Bellringer, Alan W. Henry James, p. 36.
27 Chase, Richard. The American Novel and Its Traditions. L., 1958.