
У Эмили Дикинсон (Emily Dickinson, 1838-1886) как будто и не было жизненной истории, отдельной от той, что "сказалась" в стихах — не прямо, а "вкось" (slant), как, по ее убеждению, только и должно изъясниться поэтически. Ее биография — история негромкого, бессобытийного повседневного существования, которое выстраивалось, год от года все более последовательно, по образцу поэтической метафоры. "Жизнетворчество" сводилось большей частью к отказу от хлопотливых усилий по самообнаружению — разве только намеком, летучим и на лету схватываемым, как при чтении стихов.
Дикинсон любила загадки, среди них предпочитала трудноразрешимые, и таковую — вполне осознанно — являла сама. Впечатление от общения с нею современник (Т. У. Хиггинсон, покровитель и доброжелатель из стана официальной литературы, о котором подробнее пойдет речь дальше) описал следующим образом: "Она для меня — тайна, которую нечего было и пытаться разгадать в ходе часовой беседы, — инстинктивно я чувствовал, что малейшая попытка расспрашивать напрямую заставит ее спрятаться назад в свою раковину. Оставалось лишь сидеть и наблюдать, как если б я был в лесу..."1. Надо отметить человеческий такт и психологическую проницательность Хиггинсона, позволившие ему с уважительной бережностью, даже если и без настоящего понимания, отнестись к тому, что составляло "сокрытый двигатель" жизни и творчества той, кого ему было угодно считать своей подопечной. Напряженное вглядывание, вслушивание, сосредоточенное и чуткое (как "в лесу") подстерегание смысла сама Дикинсон трактовала как единственно благодарный способ взаимодействия с Другим, в целом — познания жизни. Об этом, собственно, все ее стихи.

Эмили Дикинсон, конец 50-х — качало 60-х годов XIX в. (?).
"Тронутая поэтесса из Амхерста" (как однажды охарактеризовал ее в частном письме тот же Хиггинсон, далеко не всегда проявлявший терпимость к причудам мисс Эмили) вела странную жизнь, то ли пугливо, то ли горделиво затворническую, и писала странные стихи, в которых хромота рифм, отсутствие грамматических согласований столь вопиющи, что рука опытного редактора сама тянулась исправить и усовершенствовать. Ни то, ни другое не выделяло ее на общем фоне любительского виршеплетства: начитанных, чувствительных, склонных к сочинительству старых дев было предостаточно в американской провинции середины XIX в. Исключительной особенностью Дикинсон была непреклонность, с какой она держалась за свою "эксцентрику". На попытки зазвать и вытащить ее в литературный "свет", на предложения (поступавшие от разных лиц, в разные годы) опубликовать стихи в антологиях и журналах она отвечала, как правило, вежливым отказом. Потому, видимо, что быть замеченной не стремилась, а быть понятой не надеялась. При жизни ею было опубликовано чуть более десятка стихотворений, иные - покровительственно "поправленные" редакторами. Понимание - на собственных условиях - пришло к Дикинсон лишь после смерти, точнее, уже после того, как во второй половине двадцатого столетия в свет вышло полное собрание ее стихотворений ("Стихотворения Эмили Дикинсон" в трех томах под редакцией Т. Х. Джонсона, в 1957 г.) и писем ("Письма Эмили Дикинсон" в трех томах, под той же редакцией, в 1958 г.). Только теперь ее статус одного из классиков англоязычной поэзии предстал как вполнне бесспорный, а среди читателей и исследователей ее творчества утвнрдилось убеждение, что в основе "странностей" лежали не капризы частной судьбы и не причуды нрава, но нечто, значительностью затмевающее первое и второе: смелый "языковой эксперимен " (во многом сопоставимый с тем, что осуществлялся в это ж время Уолтом Уитменом), метод художественного освоения жизни, новый сравнительно с романтизмом начала XIX в. и неожиданно близкий поэтам нашего столетия.
Восемь поколений отделяют Эмили Дикинсон от йоркширца Натаниэля Дикинсона, который (на одном корабле с Джоном Уинтропом) перебрался через океан в 1630 г., чтобы поселиться в долине реки Коннектикут, — восемь поколений и два с половиной века фермерского труда, стычек с индейцами, лишений и упрямой борьбы за существование. История рода Дикинсонов неотделима от Новой Англии, конкретно — городка Амхерста в штате Массачусетс: в эти места переселился в 1745 г. правнук основателя рода, прадед будущей поэтессы.
Ее дед, Сэмюэль Дикинсон, пользовался среди земляков уважением как ученый юрист, "светский евангелист" и просветитель: благодаря его непреклонной энергии, личной целеустремленности, а также большей части состояния в Амхерсте была основана Академия, преобразованная в 1821 г. в Амхерстский колледж. Последний вплоть до середины XIX в. оставался твердыней ортодоксального пуританства, упрямо сопротивляясь унитарианской ереси, которой попустительствовал более вольнодумный Гарвард. "Династия Дикинсонов" на протяжении еще по крайней мере двух поколений — ее представляли сын Сэмюэля Эдвард (отец Эмили) и его внук Остин (старший брат) — играла видную роль в политической и культурной жизни Амхерста. Происхождение из "хорошей", уважаемой и состоятельной семьи отчасти предопределило характер позднейшей литературной карьеры Дикинсон, точнее, полное отсутствие таковой. Не будучи принуждена писать ради денег, она сама определила свой статус как принципиально любительский: это обеспечивало ей возможность самостоятельно и "штучно" выбирать адресатов своих стихов, чураясь анонимного (по собственному ее ощущению, "аукционного") общения с широкой публикой посредством печатной страницы.
Церковь продолжала играть центральную роль в общественной жизни, Библия оставалась настольной, а для старшего поколения и единственно уважаемой книгой. Распространенной детской забавой была игра "в проповедника"; среди взрослых обсуждение теологических тонкостей (обрекает ли единожды свершенный грех на вечную кару? тождественно ли "вечное" наказание "бессрочному"?) считалось занятием если не будничным, то привычным. К игре в карты и танцам столпы местного общества относились скептически, романы считались чтивом легкомысленным и в силу этого подозрительным, концерты и прочие развлечения были крайне редки, театр отсутствовал совсем. На досуге было принято ходить друг к другу в гости — на чай. Когда, уже в середине 70-х годов, жена ректора епископальной церкви (дочь Г. Бичер-Стоу), стараясь расшевелить упрямых провинциалов, попробовала ввести в моду званые вечера, ее попытки не встретили понимания, а реакция городской общественности нашла выражение в следующей замечательной фразе: "Мы хотели бы пребывать в изящной простоте".
И действительно, повседневная жизнь в Амхерсте протекала неспешно, скромно, строго и просто. Почти каждая семья имела дом и несколько акров земли с огородом и садом. Одно из ранних впечатлений Эмили — поездка с отцом на мельницу, куда сквайр Дикинсон собственноручно возил мешки с зерном. В последующей ее жизни, как и в жизни большинства американок среднего класса, заботы о домашних и по хозяйству поглощали значительную часть дня: время творчества могло лишь прилагаться к "реальному времени", заполненному простыми и неотложными делами, как уход за прикованной к постели матерью, выпечка хлеба, штопка белья или прополка цветочных грядок. "У меня всего две руки, — жалуется девятнадцатилетняя Эмили в письме (1850 г.), — не четыре и не пять, как надо бы — а дел ТАК много — и я ТАК всем нужна — и мое время ТАК мало значит — а мои сочинения ТАК очевидно бесполезны"2 листов бумаги. "Изящная простота", домашняя непринужденность, строгая экономия словесного и образного выражения отличают поэтическое мышление Дикинсон. Так, желая передать сложное ощущение внезапной, беспорядочной опустошенности в сердце, вызванной смертью любимого человека, она расскажет о "церемонной суете", предшествующей появлению в амхерстском доме гробовщика. Сердце подметают, как опустевшую комнату, любовь складывают в сундуки, как старое платье3. В другом стихотворении, размышляя о разлуке, которую приносит смерть — ее предстоит терпеливо превозмогать в ожидании Воскресения, — Дикинсон с несколько мрачной иронией рисует образ хозяйки, поджидающей гостей к чаю в гостиной (1743).
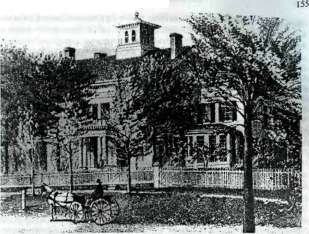
Дом Дикинсонои — строгий и просторный кирпичный особняк, стоящий и теперь в трех кварталах от центральной площади Амхерста, был построен в 1813 г. дедом Эмили. Дом всю жизнь безусловно оставался центром, фокусом ее существования. "Дом — это святое, даже тени сомнения или недоверия не вхожи под его блаженные своды. Я тем более это чувствую, чем безогляднее мчит вперед большой мир, чем чаще то один, то другой из тех, кому мы верили, нас покидает, — здесь же как будто маленький Эдем, неотлучимый от нас никаким грехом" (2, М° 59). Как ключевой, притом исключительно многозначный образ, дом запечатлен в поэзии Дикинсон: и убежище, и тюрьма, и крепость. Дом дает ощущение спокойного счастья, но и плодит загадочно-жуткие страхи. Уютно свой и вместе с тем чужой, он — место, куда и откуда спасается лирическая героиня.
Если Торо "путешествовал по Конкорду", то Дикинсон сферу своих физических странствий ограничила еще более жестко: за всю жизнь она выезжала из Амхерста не более, чем десяток раз (самыми длительными были поездки в Бостон, Вашингтон и Филадельфию в 1854 г. и потом еще дважды, в 1864 и 1865 годах, в Бостон для лечения болезни глаз). В последние десятилетия жизни она и вовсе не выходила за пределы дома и сада. В динамичной, легкой на подъем Америке, где перемена мест превратилась в род национального хобби, такое принципиальное домоседство было возможно лишь как результат сознательного и последовательного выбора.
"по-новоанглий-ски" (New-Englandly), ясно осознавала и сама Дикинсон, и уже самые ранние ее читатели. Показательно в этом отношении суждение, высказанное Т. У. Хиггинсону его коллегой, массачусетским журналистом после того, как тот познакомился впервые со стихами Дикинсон: "Она может стать мировой знаменитостью или никогда не переступить пределы ново-английской провинции. Она — квинтэссенция того, что так или иначе характеризует всех нас, наследников чистопородных пуритан. Мы пришли когда-то на эту землю, чтобы иметь возможность мыслить самостоятельно и так, чтобы никто не посягал на нашу мысль. Аскеты, кто ж будет спорить, но здесь наши Фивы. Мы общались с собственными душами, пока не утратили способность общаться с окружающими людьми. Типичная семья — сообщество незнакомцев, как оно было и в ее случае. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ высота духа оборачивалась и исключительным одиночеством. Такая беспримерная замкнутость едва ли возможна где-то еще. Мы многое наследовали от британцев, но британцы не жили ведь сто пятьдесят лет вдали от всего мира, целиком сосредоточенные на себе" (1; р. 26).
властным и отнюдь не лишенным честолюбия. Один из самых заметных и уважаемых горожан Амхерста, он два срока отработал в сенате штата, в 1852 г. был избран от Массачусетса в Конгресс США, а позже (в 1859—1860) выдвигался на должность губернатора. Дома в связи с этим он бывал редко, общение его с детьми (безусловно любимыми) было ограничено как недостатком времени, так и сдержанной суровостью нрава. "Мой отец все больше читает по воскресеньям, — замечает Дикинсон в письме, — свои ОДИНОКИЕ и СТРОГИЕ книги" (2; № 342а). Даже в интимном домашнем кругу этот человек оставался одинок. Проистекающий отсюда скрытый драматизм его существования чутко подмечала дочь: "В те редкие мгновения, когда отец забывает в себе законника и становится всего лишь человеком, он говорит, что его жизнь прошла в пустыне или на острове... Так оно и есть: когда я по утрам слышу его голос, он доносится гулко, хрипло, кажется, Бог весть откуда, будто с моря, из далекого далека, вроде острова Хуана Фернандеса" (2j № 178). Педантичная рассудочность была преобладающей чертой в характере Эдварда Дикинсона, — ср. его письма будущей жене: "Будем готовиться к жизни, исполненной разумного счастья. Я не жду и не желаю ДОВОЛЬСТВА... его, я полагаю даст мне всецелая преданность моему делу" (1; р. 47)'. Он не был, однако, чужд и поэтической жилки: сохранилась история о том, как сквайр Дикинсон всполошил однажды весь город колокольным звоном, желая привлечь общее внимание к необыкновенно красивой игре красок в закатном небе (2; № 53). Как бы то ни было, строгость и замкнутость главы семейства, его нерасположенность к шутке, игре, наслаждению ("довольству") сказывались на домашней атмосфере: "Нам тут ТЕПЕРЬ не до шуток, — иронизирует юная Эмили в письме брату в 1851 г., — сплошь одно здравомыслие и ни грана поэзии, поскольку папа превыше всего ставит НАСТОЯЩУЮ ЖИЗНЬ. Его и мои представления о жизни то и дело сталкиваются в лоб, но покуда обходилось без жертв" (2; № 65). "Он покупает мне много книг, но просит их не читать, — ехидничает она в другом письме, — опасаясь за здравие моего рассудка" (2; № 261). Чувство юмора для младших членов семьи явно служило способом самозащиты от отцовского авторитаризма. Впрочем, по воспоминаниям Лавинии, семья в целом напоминала все же не деспотию, а, скорее, конфедерацию: "Мы жили на правах дружественных и автономных правителей, каждый в своем государстве...". Независимость и личный суверенитет здесь явно оцениваются как благо — оборотной его стороной оказывалось одиночество каждого из "суверенов": "... Вы ощущали тесную связь с людьми, которым дарили свою преданность и верность, но поделиться мыслями было не с кем" (1; р. 44).
В стихах Дикинсон суровый и величественный облик Бога-отца, которому лирическая героиня дерзает противоречить, но в ком одновременно ищет опору, источник духовной ясности (в связи с чем их "общение" протекает то в напряженно-серьезном и торжественном, то в "фамильярном", обидчиво-укоризненном или нежно-ироническом регистре), многим напоминает ее земного отца.
О матери поэтессы, Эмили Норкросс Дикинсон, известно немного: судя по сохранившимся свидетельствам, это была тихая, робкая, незаметная женщина, чья любовь изливалась на детей простодушно и подчас неумело. Раздражение и горечь от невозможности взаимопонимания нашли выражение в немногих жестких характеристиках, мелькающих в письмах Дикинсон: "Моя мать не снисходит до мысли"(2; № 261). "У меня никогда не было матери. Я полагаю, что мать — та, к которой спешишь в беде"(2; № 342 в) Отсутствие духовного родства здесь как бы перечеркивает родство кровное — характерное выражение требовательного максимализма, которым отмечен духовный склад поэтессы. Что не мешало ей в жизни быть преданной дочерью: когда Эмили пришлось в течение нескольких лет ухаживать за разбитой параличом матерью, взаимопонимание между двумя женщинами оказалось возможно и реально.
При всей скромности, Амхерст не был унылым захолустьем. Эмили могла здесь встретить немало людей, способных увлечь молодое воображение — личностей ярких, самобытных, нередко эксцентрических. Страсть к просвещению всегда отличала Новую Англию. С XIX в. сохранились анекдоты о местных фермерах, которые при случае могли процитировать Вергилия и, идя за плугом, учили латинскую грамматику. Амхерстский колледж, с которым семейство Дикинсонов так или иначе было связано со дня основания, находился в городке на положении всеобщего лелеемого детища. В годы юности Эмили Дикинсон (когда в колледже учился ее старший брат) из почтенных стен выходили в основном священники и миссионеры, готовые нести слово Божье далеким народам Сирии и Турции, Индии и Китая. В местном музее хранилось множество заморских диковин — растения, минералы, чучела животных. Так что об океанских штормах и "красотах Бирмы" (экзотические сравнения у Дикинсон встречаются нередко, но всегда неожиданно: "Бирма", например, фигурирует в стихотворении, посвященном обыкновенной, "домашней" иволге) можно было узнать не только из учебника географии, но и со слов очевидца. Посещали Амхерст и отечественные знаменитости, в частности, дважды приезжал Эмерсон (в один из приездов он останавливался в доме Остина, к тому времени уже женатого и поселившегося по соседству со "старым гнездом").
— подвижная, впечатлительная, жизнерадостная девочка, любимица семьи. Несколько лет, с перерывами (которые объяснялись слабым здоровьем, хотя действительной причиной была скорее всего слишком тесная эмоциональная привязанность к дому) она училась в Амхерстской академии, а затем год (1847-1848) в женской семинарии Маунт-Холиоук, где получила вполне основательное по тем временам образование. Очень общительная и озорная, она была редактором школьного юмористического листка, состояла в литературном обществе, как все девочки-подростки, влюблялась в музыку и поэзию, в школьных преподавателей и подруг, участвовала в развлечениях местной молодежи — прогулках, санных катаниях и пр. Ничто не предвещало долгих лет одиночества в шестнадцатилетней девушке, задорно извещавшей подругу в письме: "Если б Господь был с нами этим летом и видел то, что видела я, он счел бы, пожалуй, рай излишеством" (2; № 185). Бывшей однокласснице Эбии Рут она пишет из дому: "Вокруг тебя там, наверное, все сплошь надутые и накрахмаленные юные леди, образцово воспитанные и благоприличные. Только не дай им покорить твой вольный дух... Что до меня, я хорошею с каждым днем! Думаю к семнадцати годам стать первой красавицей Амхерста. Не сомневаюсь, что к тому времени вокруг меня будут увиваться целые толпы поклонников" (2; № 6). Жизнеощущение юной Дикинсон прекрасно передает и "валентинка", адресованная приятелю Остина Джорджу Гульду и опубликованная анонимно в студенческой газете в феврале 1850 г.:
"Магнум бонум, "харум скарум", кверх ногамум, бей в барабанум, жизнь реформум эт перфектум, мирус целус переменус, синим пламенем горимус.
Сэр, я прошу Вас о свидании; встречайте меня на восходе или закате или при молодой луне — где, не важно. В злате, пурпуре или мешковине — на ОДЕЖДЫ не посмотрю. С мечом, пером или за плугом — важно не орудие, а НОСИТЕЛЬ. В коляске, фургоне или пешком — главное, чтоб явились ЛИЧНО. Душою, духом или телом, решительно все равно. В компании или наедине, в ведро или ненастье, на небе или земле, хоть как, хоть вообще никак — только я, сэр, намерена с вами повстречаться.
И не просто повстречаться, сэр, а поболтать по душам, тет-а-тет, по-дружески, достичь слияния розных умов — вот что я затеяла. Знаю и чувствую — нам это суждено. Будем, как Давид и Джонатан, как Демон и Пифия или, еще того лучше — как Соединенные Штаты Америки... Такие штучки мы тут среди себя называем метафорой. Не бойтесь, сэр, не кусается. Не то, что мой Карло" (2; № 34).
"предметов" назывались разные лица из числа студентов амхерстского колледжа, бывавших в доме. Одна из наиболее реальных фигур — молодой (рано умерший) юрист Бенджамин Ньютон, которого в письмах Дикинсон называла своим "Наставником": на каком-то этапе он, действительно, руководил ее чтением, познакомил впервые со стихами Эмерсона и прозой сестер Бронте, по-видимому, одним из первых угадал в ней поэтический дар. В письме к Хиггинсону поэтесса заметит: "Мой Наставник, когда был жив, говорил мне, что желал бы дожить до часа, когда я стану поэтом... Вскоре затем он умер, и в течение нескольких лет толковый словарь был моим единственным другом" (2; № 153).

В 1854 г. семейство Дикинсонов предпринимает совместное путешествие в Филадельфию и Вашингтон. Тогда-то, как полагают биографы, Эмили встречается впервые с Чарльзом Водсвортом, пресвитерианским проповедником из Филадельфии: ему в это время уже за сорок, он женат, пользуется известностью и заслуженным уважением в обществе. Есть некоторые основания полагать, что он был человеком, которого Дикинсон любила всю оставшуюся жизнь без надежды на взаимность. Их переписка практически не сохранилась, единственное, что известно наверное: Водсворт дважды - в 1860 и 1880 годах, оба раза неожиданно -посетил дом Дикинсонов в Амхерсте. Весной 1862 г. он уехал из относительно близкой Филадельфии в Сан-Франциско, чтобы стать проповедником в Кэлвери-черч (буквально — церковь Голгофы). В связи или вне связи с этим обстоятельством, но примерно в это время Дикинсон принимает "белое избранничество" (в последние десятилетия жизни она одевается почти исключительно в белое) и называет себя в стихах "царицей Голгофы".
Она все реже выходит за пределы сада и мало кого принимает у себя. Жизнь постепенно и необратимо замыкается в узком кругу: самые близкие люди, птицы и цветы в саду, словарь. Впрочем, с внешним миром, с многочисленными далекими друзьями и знакомыми Дикинсон связывает активная переписка. "Письмо, как мне кажется, всегда, сродни бессмертию" (2; № 330), но точно так же и — "земная благодать, недоступная богам". Письмо — общение интимно-доверительное, но неизбежно опосредованное расстоянием и листом бумаги, допускающее игру в прятки и изощренный маскарад. По переписке Дикинсон можно наблюдать, как легко она меняла стиль, тональность письма, приноровляясь к каждому корреспонденту: Хиггинсону представляется смиренной и робкой искательницей его советов (которыми не думала следовать); бостонским кузинам - девочкой-эльфом, беззаботной и непосредственной; в глазах множества амхерстских знакомых всю жизнь остается милой Эмили, озабоченной исключительно домашним хозяйством, грядками в саду, здоровьем родных и близких. Лишь изредка — серьезное (но, как правило сдобренное иронией) полупризнание или короткие строчки стихотворения. Примечательно, что ни разу Дикинсон не ответила на просьбы недоумевающих получателей этих строк пояснить темный или причудливый образ. "Меня все спрашивают "О чем", но ведь это, наверное, только мода", — бросает она (неожиданно — свысока) в письме Хиггинсону (2; № 271). Сосредоточенность в себе, . придирчивая избирательность, неспособность к компромиссу — постоянные характеристики ее жизненного и поэтического стиля.
деятель радикально-реформаторского толка, Хиггинсон незадолго перед тем опубликовал в журнале "Атлантик мансли" статью под названием "Письмо начинающему автору" — своего рода наставление молодым поэтическим дарованиям Америки. Используя этот повод, Дикинсон и сочла возможным обратиться к нему со смиренно-горделивой просьбой: "... скажите, жив ли мой Стих? Сама к себе слишком близко, не разглядеть, а спросить не у кого" (2; № 260). К письму были приложены четыре короткие стихотворения, в том числе одно из лучших, когда-либо ею написанных: "Safe in their Alabaster Chambers" (216). Хиггинсона заинтриговали эти вещицы, резко оригинальные по мысли и образности, но полные грамматических несуразиц и сильно хромавшие (как казалось при первом чтении) по части рифм и размера. В ответном письме он великодушно похвалил "начинающего автора" за "прекрасные слова и мысли" и попросил побольше рассказать о себе. Ответ не замедлил последовать:
"Спасибо за хирургию — не так больно, как думала. Я пришлю вам еще — как Вы просите — только они едва ли лучше.
— я их различаю ясно, стоит им нарядиться — все глупы на одно лицо.
Вы спрашиваете, сколько мне лет? Я не писала стихов до этой зимы, сэр, — разве одно или два.
— с сентября — а рассказать некому, потому и пою, как Мальчишка на Кладбище — от страха. Вы спрашиваете, что читаю? Из поэтов — Китса, также мистера и миссис Браунинг. Из прозы — мистера Рескина, мистера Томаса Брауна — и Откровение... Вы упоминаете мистера Уитмена — его книгу не читала - только слышала, что ужасен..." (2; № 261). Из следующего (месяц спустя) письма: "Вы советуете мне не торопиться с публикацией — но это до смешного чуждо мне — как Небо Плавнику.
Если слава — моя, от нее не убежишь, если нет — и не подумаю бегать. Этак мой Пес перестанет меня уважать, нет уж — почетнее быть Босоножкой.
Вы заметили — я дышу прерывисто: потому что я в опасности, сэр, и Вы заметили — я "самочинна": потому что надо мной нет Суда..." (2; № 265).
"Ваша Ученица", хотя скоро, наверное, поняла, что за помощью и сочувствием обратилась не совсем по адресу (был ли он вообще, настоящий адрес?). Хиггинсон, способный и проницательный критик, с достаточно гибким, но в целом вполне традиционным вкусом, не был готов оценить такое необычное явление, как поэзия Дикинсон. "С моей стороны, — признавал он уже после смерти поэтессы, — был интерес, серьезный и доброжелательный, но едва ли основанный на глубоком понимании; с ее стороны была надежда, заведомо несбыточная, хоть на чью-то поддержку в сражении с темными загадками жизни" (2; р. 26). Поддержать ее в одиноком "сражении" не могли по-настоящему ни Хиггинсон, ни Сэмюэль Боулз, другой постоянный корреспондент и доброжелатель Эмили из литературно-журнального мира, ни английский поэт Роберт Браунинг, с которым она также долго переписывалась, ни отечественная поэтическая знаменитость Хелен Хант Джексон.
"сразу" — с произведений сильных и зрелых. О периоде ученичества судить невозможно — скорее всего свои первые опыты она не хранила или впоследствии их уничтожила. Из дошедших до нас произведений наиболее ранние датируются (очень приблизительно) 1857 г. Затем последовал "взрыв": за четыре года между 1860 и 1864 написана большая и, пожалуй, лучшая часть всего корпуса сочинений Дикинсон. Впоследствии, вплоть до своей смерти в 1886 г., она писала относительно немного, тщательно отделывая детали, много работая над черновиками и вариантами. О какой-либо периодизации творчества судить едва ли возможно. Все попытки датировать стихи (основанные на изменении почерка) условны и малонадежны.
1 Sewall R. B. The Life of Emily Dickinson. N. Y., 1974, pp. 5-6.
2 The Letters of Emily Dickunson (3 vols.) Ed. by T. H. Johnson. Cambridge, Mass., 1958, № 30. Далее письма цитируются в тексте по этому изданию — 2 и номер письма.
его порядковый номер по данному изданию.