
Генри Адамс вошел в историю американской литературы прежде всего как автор автобиографической книги "Воспитание Генри Адамса". В 1907 г. семидесятилетний Адаме печатает "Воспитание" небольшим тиражом и рассылает экземпляры своим друзьям, с просьбой внести исправления и написать комментарии — случай столь же беспрецедентный, сколь и показательный. Адамс — авторитетный историк, автор, хотя бы и анонимный, нашумевшего романа "Демократия", к тому времени уже написавший и переиздавший "Мон-Сен-Мишель и Шартр", — считает себя писателем-дилетантом, а свое лучшее произведение — незаконченным, неудачным, предназначенным для узкого круга, пусть даже узкий круг в числе прочих представлен Генри Джеймсом, Уильямом Джеймсом и Теодором Рузвельтом.
Приватное пространство письма имело для Генри Адамса особый ценностный смысл. В "Шартре" (как обычно называл "Мон-Сен-Мишель и Шартр" сам автор) он ведет воображаемый разговор с племянницей и предлагает читателю книги стать его "племянницей в мечтах" (niece in wishes), перефразируя строки из одной елизаветинской драмы: "Кто прочтет меня, когда я обращусь во прах, // Будет моим сыном в мечтах" ("... Who reads me, when I am ashes, // Is my son in wishes...")1. Правда, как Адамс будет шутить в дальнейшем: "Моих племянниц значительно больше, чем я предполагал, и я теперь думаю, зачислять ли в их ряды президента"2. Подобно тому, как "Шартр" — книга для "племянниц", "Воспитание Генри Адамса" было написано в основном для тех, кто в нем упомянут, а также для "лиц, компетентных внести коррективы и предложить изменения" (2; р. 117). "Эта книга, — настаивает Адамс в одном из писем, — не предназначена для чтения" (2; р. 117). Посылая "Воспитание" друзьям, его автор смиренно извиняется за несовершенство литературной формы, подчеркивает, что это всего лишь черновой набросок произведения, которое могло бы быть написано: "Вряд ли я должен говорить тебе, — пишет он Генри Джеймсу, — что моих собственных заметок на полях значительно больше, чем у любого читателя, и это делает публикацию совершенно немыслимой"3.

Любопытно не только то, что Адамс публикует книгу "для друзей", но то, что он предлагает друзьям стать критиками, редакторами и в конечном счете соавторами его произведения. Последнее говорит не только о присущей ему почти гипертрофированной скромности, но и о непреходящем стремлении к совершенствованию. Неудачи, которыми, по мнению самого Адамса, венчались все его начинания, в реальности оборачивались важными творческими импульсами, благодаря которым Генри Адамс стал тем, кем он стал. Его эксперимент с рассылкой "Воспитания" друзьям, правда, так и не удался. Лишь очень немногие, как Уильям Джеймс, вернули книгу с комментариями и критикой. Большинство, как Рузвельт, "Воспитание" не вернули и отказались комментировать. Ректор Гарвардского университета Чарльз Элиот, мнения которого Адамс больше всего, по его собственному признанию, боялся (3; р. 477), отослал свой экземпляр без всяких поправок, чтобы впоследствии бросить: "И автора, и книгу сильно переоценили". Элиот был лично задет нелестным мнением Адамса о гарвардском образовании, но этот запоздалый комментарий лишь подчеркивает то, что Адамс избрал наиболее трудный путь, предоставив героям своего произведения право участвовать в его доработке.
"Воспитание Генри Адамса" было опубликовано в 1918 г. уже посмертно, хотя и с согласия автора, и круг его читателей предельно расширился. Книга стала бестселлером, претерпела множество переизданий, а в 1919 г. получила Пулитцеровскую премию. «Влияние "Воспитания", действующего почти как скрытая сила, безошибочно угадывается, помимо Элиота, в творчестве столь разных писателей, как Шервурд Андерсон, Вэчел Линдсей, Ф. Скотт Фицджеральд, Эрнест Хемингуэй, Юджин О'Нил, Натаниэль Уэст, Норман Мейлер и Томас Пинчон»,— отмечает один из исследователей4. Список, поистине, впечатляющий и едва ли "переоценивающий" роль Адамса в американской литературе XX в. "Воспитание Генри Адамса", которое нередко сравнивают с "Автобиографией" Бенджамина Франклина, с "Моби Диком" Мелвилла, с трудами Гиббона, Мишле и де Токвиля, составило посмертную славу его автора и выделило его из семьи Адамсов, в свою очередь оставившей след в истории США.
Генри Брукс Адамс (Henry Brooks Adams, 1838-1918) родился в Бостоне 16 февраля 1838 г. Его отец, Чарльз Фрэнсис Адаме, был сыном шестого президента США, Джона Квинси Адамса (John Quincey Adams), и внуком второго президента — Джона Адамса (John Adams), после Джорджа Вашингтона и перед Томасом Джефферсоном. Адам-сы жили в Массачусетсе в восьмом поколении — семейные традиции уходили далеко в национальное прошлое страны. Жизнь самого Чарльза Фрэнсиса, конгрессмена и лидера фрисольеров в годы Сецессии, посла в Англии во время Гражданской войны, была непосредственно связана с государственной политикой и историей Соединенных Штатов. После войны он считался одним из возможных претендентов на президентское кресло, хотя так и не был выдвинут в кандидаты. Мать Генри, Абигайль Браун, была дочерью бостонского миллионера, Питера Чэндлера Брукса. По свидетельству самого Адамса, после смерти он завещал семерым наследникам "состояние в два миллиона долларов — крупнейшее, как считалось тогда, в Бостоне"5.
"делающих" американскую историю. Он воспитывался в атмосфере ново-английской пуританской семьи, которая стремилась привить детям идеалы и принципы Просвещения. Подобное воспитание оказалось тем более убедительным, что перед глазами подрастающих Адамсов был пример самого Джона Квинси — меньше, чем за десять лет до рождения Генри уступившего Белый дом Эндрю Джексону (Дж. К. Адамс умер в 1848 г.).

Дом Генри Адамса в Квинси (Масс), XVIII в., где до него жили 4 поколения Адамсов. Фотография. XIX в.
Детство будущего автора "Воспитания" проходило большей частью в Квинси — резиденции бывшего президента, олицетворявшей для него "нравственный принцип — принцип противодействия Бостону" (5; с. 31), где на Стейт-стрит жил его второй дед, Брукс. Просветительская вера в "Истину, Долг и Свободу" (там же) вступала в противоречие с материальными выгодами, которые сулил Бостон.
Одним из важнейших событий в жизни маленького Генри стала болезнь скарлатиной в 1841 г., хотя и считается, что на склоне лет Адамс сильно преувеличивал ее значение. Скарлатине, по его мнению, он был обязан своим невысоким ростом. "Homunculus scriptor... Henricus Adams" (5; с. 440), как он назовет себя в шутливом стихотворении, написанном на латыни. Адамс считал также, что болезнь повлияла на его "характер и духовные склонности" (5; с. 12). "Он не блистал в драках и отличался более чувствительными нервами, чем положено мальчику" (там же). Одним из проявлений чувствительности было отвращение к школе. В "Воспитании" рассказывается о том, как однажды "старший Адамс победил младшего" (5; с. 19): "старый джентльмен" Джон Квинси взял взбунтовавшегося ребенка за руку и, не говоря ни слова, повел его в школу. Эта история послужила началом дружбы между внуком и дедом, однако неприязнь к школе у Адамса так и не прошла. Вместе с тем, с самого раннего детства он увлеченно читал (у Адамсов была самая богатая библиотека в Бостоне); в круг его чтения входили книги Теккерея, Диккенса, Бульвера-Литтона, Теннисона, Маколея, Карлейля, Вальтера Скотта (5; с. 52).
В 1854 г. Адаме, следуя семейной традиции, поступает в Гарвард, где в течение своего четырехлетнего пребывания пишет для студенческого журнала "Гарвард мэгезин" и проявляет ораторские таланты — его даже избирают оратором курса. Безусловно, он получил лучшее образование, какое тогда можно было получить в Америке, невзирая на довольно скептическую оценку своих университетских лет в "Воспитании". «При всем желании Адаме не мог вспомнить, чтобы в университете упоминалось имя Карла Маркса или название книги "Капитал". И об Огюсте Конте он ничего не слыхал. А ведь эти два автора всех сильнее повлияли на мысль его времени» (5; с. 76). Увлечение Марксом и особенно Контом, равно как и модной дарвиновской теорией эволюции, относится к более позднему этапу воспитания Генри Адамса. Пока же, выпускник Гарварда, он уговаривает отца отправить его изучать гражданское право в Германию. В Берлине, обнаружив, что для слушания лекционного курса он недостаточно знает немецкий, Адамс поступает в обычную школу и занимается изучением языка.
монография была посвящена англо-саксонской правовой системе. Годы обучения в Европе Адамс посвятил в основном путешествиям, побывав в Италии и Австрии, где ему посчастливилось встретиться с Виктором Эммануилом II и Джузеппе Гарибальди. Он писал путевые заметки, которые под названием "Письма из Австрии" и "Письма из Италии" были отосланы в Америку и напечатаны его старшим братом Чарльзом Фрэнсисом в "Бостон дейли ревью".
Джон Адаме, занимал ту же должность при Джоне Квинси. ' В семье Адамсов должность секретаря рассматривалась как своего рода инициация молодого человека, его приобщение к государственной или дипломатической службе. Генри не только высоко ценил семейные традиции, но и всецело разделял политические взгляды отца. Отдав свой голос Аврааму Линкольну на президентских выборах, он был убежденным аболиционистом.
Годы Гражданской войны Генри Адамс провел в Лондоне, продолжая исполнять обязанности личного секретаря при отце-после. Положение будущего писателя было непростым. В свои двадцать с небольшим лет он был лишен возможности участвовать в военных действиях, как большинство его ровесников. В Лондоне, настаивал его брат, Чарльз Фрэнсис, он был нужнее, чем на фронте. Действительно, американская дипмиссия, возглавляемая Адамсом старшим, оказалась во враждебном лагере: английское общество открыто сочувствовало Югу, тогда как английские политики — премьер-министр Великобритании лорд Пальмерстон, лорд Гладстон и лорд Рассел — тайно оказывали южанам поддержку, ожидая разгрома союзных войск. Генри Адаме, со свойственным юности максимализмом, не смог простить даже своим литературным кумирам — Уильяму Мэйкпису Теккерею и Томасу Карлейлю — их неприязни к федералистам. "Разбивать идолы всегда мучительно, а Карлейль был идолом. Тень, брошенная на его авторитет, подобно теням при закатном солнце, протянется далеко, погрузив все во мрак" (5; с. 159). Тонкая дипломатия отца, наравне с известиями о победах на фронте, помогла восстановить авторитет правительства Линкольна в Англии. Перед глазами сына вершились великие дела, но сам он оставался все же скорее наблюдателем, чем участником. Из всех доступных ему средств самовыражения было только слово: и в Вашингтоне, и в Лондоне Адамс тайно писал для "Бостон дейли адвертайзер" и "Нью-Йорк таймс".
Уже ранние публикации Адамса, в их числе: "Капитан Джон Смит" ("Captain John Smith"), "Британские финансы в 1816 г." ("British Finance in 1816"), "Банковские ограничения в Англии" ("The Bank of English Restriction") — отличаются обстоятельной, почти научной разработкой проблемы. В статье "Великая сецессия зимы 1860-1861 г." ("The Great Secession Winter of 1860-1861") Адамс рассуждает о причинах политического кризиса в США. Роковой ошибкой, по его мнению, оказалось отсутствие в американской конституции положения, затрагивающего вопрос о рабстве. В статье обосновывалась необходимость внесения поправок в конституцию, ее пересмотра в соответствии с изменившейся исторической ситуацией. В годы жизни в Лондоне Адамс интересовался учением Дарвина и его последователя, английского геолога Чарльза Лайелла, на книгу которого написал рецензию для "Норт америкен ревью" в 1866 г. Рецензия свидетельствует не только о способности автора к анализу и рефлексии (Адамс критикует эволюционную модель, строя аргументацию на основе теории "катастрофизма" своего гарвардского профессора Луи Агассиса), но и о его удивительной любознательности — любознательности, которая стала его жизненным кредо и которую сам он считал проявлением дилетантизма. На протяжении всей жизни Адамс с неиссякаемым интересом штудировал новейшие труды по биологии, геологии, физике, философии, социологии, в дальнейшем пытаясь применить достижения современных наук к своим профессиональным занятиям историей.
Возвращение Адамса на родину летом 1868 г. ознаменовало новый этап в его жизни. Так и не став ни юристом, ни дипломатом, он решил попробовать свои силы в политике и переехал из Бостона в Вашингтон. Здесь он пережил большое разочарование, столкнувшись с коррупцией власти во время правления бывшего генерала федералистов Улисса Гранта. В Гранте избиратели видели второго Джорджа Вашингтона, но жестоко обманулись. Адамс мечтал о реформах, а Грант «с самого начала... декларировал политику бездействия— государственный корабль ложился в дрейф. Но при дрейфе корабль обрастает ракушками, а государственный аппарат— "бессменными" чиновниками, крепко засевшими в своих креслах. В тридцать лет податься в бессменные мало привлекательно — к тому же Адамс в этом звании смотрелся бы очень плохо» (5; с. 320). Идеалы Просвещения, впитанные в детстве, столкнулись с произволом и беспринципностью "позолоченного века", и внук Джона Квинси был вынужден отступить. Новыми "делателями" истории стали коррумпированные конгрессмены, а также промышленники и банкиры, к которым Адамс всегда испытывал неприязнь. Его взгляды на современную политику нашли отражение в рубрике "Сессия" (Session) в "Норт америкен ревью" и в статье "Золотая афера" ("Gold Conspiracy") о финансовых махинациях двух крупных дельцов, Джея Гульда и Джеймса Фиска. Статья была опубликована в 1870 г. в английском журнале "Вестминстер ревью" с расчетом на то, что американские газеты пиратски скопируют материал и он будет прочитан в США.
"Норт америкен ревью". В течение семи лет он успешно совмещал оба рода деятельности — преподавательскую и журналистскую. Несостоявшийся реформатор, Адаме постарался преобразовать систему университетского образования, в частности, в дополнение к лекционным курсам он ввел семинарские занятия со студентами, что было большим новшеством. Ему самому пришлось в короткий срок освоить историю Средних веков, чтобы разработать курс: так Генри Адамс стал профессиональным историком-медиевистом. В своих лекционных курсах и научных изысканиях он ориентировался прежде всего на методологию немецких ученых, в частности, он был последователем популярной в то время и давно дискредитированной сегодня "тевтонской теории". Идеи этой теории он развивал в своей первой исторической монографии "Очерки англосаксонского права" (Essays in Anglo-Saxon Law, 1876). В монографию вошла статья самого Адамса и работы трех его одаренных студентов, защитивших по ним диссертации. Уже здесь наблюдается характерное для Адамса стремление найти "мостик" между прошлым и настоящим. В отдаленных эпохах его интересовали прежде всего истоки нынешнего общественного устройства, например, истоки современной демократии в англосаксонском законодательстве. В том же, 1876 г., Адаме читает лекцию "Первичные права женщин" ("The Primitive Rights of Women"), во многом предвосхитившую основополагающие идеи его будущих литературных произведений— "Демократии", "Эстер" и особенно "Шартра". Здесь он показывает, как под натиском церкви женщина постепенно теряла свои права и занимала все более подчиненное положение, которое ей не было свойственно в архаической древности и раннем Средневековье. Однако едва ли можно ставить Адамса в один ряд с поборниками современного ему женского движения и тем более с феминистками XX в.6, хотя бы потому, что он идеализировал патриархальный семейный уклад.

Сэмюэль Лоуренс. Портрет Генри Адамса. 1868
"Кловер") Хупер. Как он впоследствии напишет о семнадцати годах своего брака, "у меня было все, о чем только можно мечтать на земле" (3; р. 238). По его собственным воспоминаниям, Мариан не отличалась красотой, но умела выглядеть привлекательной; природный ум компенсировал отсутствие глубоких знаний7 в дружбу. В 1877 г. чета переезжает в Вашингтон. Адаме оставляет Гарвард, приняв предложение от сына Альберта Галлатина подготовить к публикации письма отца, министра финансов при Томасе Джефферсоне, и написать его биографию. Так появляется книга "Жизнь и труды Альберта Галлатина" (Life and Writings of Albert Gallatin, 1879). Генри был не первым и не последним биографом в семье Адамсов. Джон Квинси Адаме начал писать биографию своего отца, второго президента США. Его замысел реализовал Чарльз Фрэнсис Адаме в книге "Жизнь Джона Адамса". Биографию самого Чарльза Фрэнсиса написал Чарльз Фрэнсис младший, тогда как Брукс Адаме, историк, как и Генри, стал автором "Жизни Джона Квинси Адамса". Интересно, что Генри Адаме отошел от семейной традиции, взявшись за жизнеописание не члена своей прославленной семьи, а государственного деятеля, который находился в тени Джона Адамса и Томаса Джефферсона. Вместе с тем, как считает исследователь Дж. С. Левенсон, жизнеописание Галлатина дало Адамсу возможность подробно изложить те принципы, которым следовал его прадед8— "Джон Рэндольф" (John Randolph, 1882) и поэта Джона Кэбота Лоджа, рано умершего сына его близких друзей — "Жизнь Джона Кэбота Лоджа" (The Life of John Cabot Lodge, 1911).
От создания биографий Адаме постепенно переходит к подготовке 9-томной "Истории Соединенных Штатов во времена правления Джефферсона и Мэдисона" {History of the United States During the Administrations of Jefferson and Madison). В эпохе Джефферсона Адаме видит и апофеоз, и кризис идеалистической политики, для которой больше нет места в современном мире. Измерение прошлого современной системой ценностей и оценок — один из принципиальных моментов в "Истории", объемном, документированном и по-немецки обстоятельном труде (полностью он был опубликован в 1892 г.).

Дом Генри Адамса в Квинси
"Пять сердец" ("Five of Hearts"). Если говорить о литературных связях Адамса, то кроме Генри Джеймса он был лично знаком с Уильямом Дином Хоуэллсом, Суинберном, Редьярдом Киплингом. Оскара Уайльда, совершавшего свое знаменитое американское турне, Адамсы принять у себя отказались. Нужно сказать, что Адаме придерживался довольно консервативных вкусов в литературе. Ему не нравились "скрежетания гнилых зубов Верлена" и, по его собственному выражению, "других отбросов" современной литературы (7; р. 224). К натуралистам, декадентам и символистам он не испытывал особой приязни. Разделяя антисемитские взгляды, во многом под влиянием работ Эдуарда Дрюо, он равнодушно относился к общественному резонансу, вызванному делом Дрейфуса, этого "воющего еврея" (7; р. 225), и тюремным заключением Золя. Круг чтения Адамса составляли в основном серьезные труды по истории, философии и социологии, в том числе работы Карла Маркса; в литературе же он ориентировался на традицию Теккерея, Готорна, Диккенса, Джордж Элиот, психологическую прозу Джеймса, что нашло отражение в написанных им в этот период романах — "Демократия" (Democracy, 1880) и "Эстер" (Esther, 1884). "Демократия" была опубликована анонимно, и об авторстве Адамса знали только жена и самые ближайшие друзья, "Эстер" — под псевдонимом Фрэнсиса Сноу Комптона, в фамилии которого угадывается анаграмма имени его любимого философа Огюста Конта (Compt — Compton).
В 1885 г. мирное течение жизни было оборвано семейной трагедией. Мариан Адамс, пребывая в состоянии нервно-маниакальной депрессии после продолжительной болезни и смерти отца, к которому она была очень привязана, отравилась цианистым калием. Добровольный уход жены из жизни был тяжелейшим ударом для Адамса; как вспоминает его брат Брукс9, "Я все равно выберусь из этого — как мне его назвать? — из этого ада!", — писал он в ответ на соболезнования Джона Хея (3; р. 186). Чтобы "вырваться из ада", Адаме начинает путешествовать. В 1886 г. он отправляется вместе с другом, художником Джоном Ла Фаржем в Японию, еще через несколько лет, похоронив родителей, он посещает Гавайи, Самоа, Таити, Фиджи, Австралию и Цейлон. Под влиянием Ла Фаржа занимается акварелью, на Цейлоне пишет стихотворение "Будда и Брахма" — критики нередко говорят о "брахманизме" как о жизненной философии Адамса. Наиболее творчески плодотворной оказалась поездка на остров Таити. Затянувшиеся и скучные дни в ожидании парохода неожиданно сменяются увлекательным для историка занятием: жена короля и претендентка на престол Марау Таароа соглашается рассказать Адамсу историю своей жизни, ее мать делится с ним знаниями о традициях и обычаях таитян. Как писал Адаме, работа над "Мемуарами" доставила ему больше удовольствия, чем его "унылая американская история, которая для меня была тем же, чем Эмма Бовари для Гюстава Флобера" (8; р. 217). Результатом поездки стали "Мемуары Марау Таароа, последней королевы Таити" (Memoirs of Marau Taaroa, Last Queen of Tahiti), изданные в 1895 г., переработанные и переизданные в 1901 г. Тем временем странствия Адамса (впрочем, так и не излечившие его от хронической бессонницы) продолжались: Куба, Мексика, Карибы, тур по Европе, еще один тур, в 1901 г., с посещением Вены, Варшавы, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Швеции и Норвегии. К России у Адамса был особый интерес, связанный с семейной историей: благожелательность Александра I в 1810 г. к Джону Квинси Адамсу, первому американскому послу в России, заложила основу "для его блестящей дипломатической карьеры, которая в итоге привела его в Белый дом. У самого Адамса — человека, ведшего незаметное существование, — также имелись достаточно веские причины испытывать благодарность к Александру II, чья политика твердого нейтралитета в 1862 г. уберегла его от многих гнетущих дней и ночей" (5; с. 523-524). В то же время, ближайшие друзья Адамса, особенно Джон Хей и Герберт Лодж, в начале века проводили антирусскую политику, оказывая экономическую и финансовую помощь Японии в рамках нового политического курса "открытых дверей", и Адаме их поддерживал. В идеале же он мечтал о "сообществе разумного равновесия, основанном на разумном распределении сфер деятельности", в который входила бы и Россия (5; с. 600): "последним и величайшим триумфом в истории было бы присоединение России к странам Атлантики и честный и справедливый раздел зон влияния в мире между цивилизованными державами" (5; с. 524)

Джон Ла Фарж. "Полинезийские парикмахеры". 1890
"Воспитания" русскому вопросу уделено много внимания. Применяя физические термины к описанию исторических процессов, наций и рас, Адамс писал о силе инерции — vis inertiae — которая движет Россией и которая несет в себе скрытую угрозу любому политическому равновесию. Любопытна параллель, которую Адаме проводит между инерцией расы и инерцией пола, подразумевая под последней материнство и продолжение рода. И в России, и в женщине — в понимании Адамса — заключена энергия, которая не поддается разумному объяснению и не подчиняется законам разума, но именно эта энергия, ее накопление, распределение и т. д., привлекала историка и писателя в рамках его философских штудий последних лет.
Особое отношение к женщине, граничащее с культом, нашло воплощение в книге "Мон-Сен-Мишель и Шартр", изданной небольшим, частным тиражом в 1904 г.; книга была отредактирована автором и выпущена еще раз в 1912 г., опять же частным образом, и только в 1913 г., по настоянию Американского архитектурного общества, была опубликована для широкой публики. Идея написания "Шартра" также пришла Генри Адамсу во время путешествия — проведенного им лета в Нормандии. Вообще же, Франция становится любимой страной писателя на склоне лет; теперь он живет попеременно то в Вашингтоне, то в Париже. Любопытно, что в юности Генри Адаме относился к Парижу — известной школе "воспитания" молодых людей — скорее с неприязнью; в старости же, напротив, Париж становится местом непрекращающегося паломничества. В 1907 г. появляется "Воспитание Генри Адамса", задуманное как продолжение "Шартра". В свою очередь, "Закон фазы в применении к истории" (The Rule of Phase Applied to History, 1909) и "Письмо американским преподавателям истории" (A Letter to American Teachers of History, 1910)— философские работы Адамса, изданные после его смерти Бруксом Адамсом под названием "Деградация демократической догмы" (The Degradation of the Democratic Dogma, 1919),— развивают многие мысли и идеи, высказанные в "Шартре" и "Воспитании". Отношение Адамса к исчезающему на его глазах старому миру становится все более тревожным: прежние политические идеалы оказываются несостоятельными в условиях власти капитала и технологической гонки. Строительство железных дорог, производство паровых машин все более актуальны для общества, чем абстрактные идеалы "Истины, Долга и Свободы" — наследство XVIII в. Растерянность Адамса лучше всего выражает его ироническое самоименование — "христианский консервативный анархист" (CCA. — Christian Conservative Anarchist).
Последнее десятилетие жизни Генри Адамса, таким образом, оказалось на редкость плодотворным. Активная творческая деятельность сочеталась с довольно тихой, подчеркнуто "незаметной" старостью, в окружении "племянниц", знакомых молодых дам, взявших на себя опеку над неизменно благожелательным и признательным "дядей". Адаме нисколько не кичился своими заслугами, скорее, наоборот, их недооценивал, относился к себе очень критически, не без доли разочарования и пессимизма. Показательно, что он избегал любых форм общественного признания. Звание почетного доктора Вестерн-Резерв Юниверсити было присуждено ему in absentia (заочно). Точно так же Адаме "случайно" оказался за границей, когда был избран вице-президентом Американской ассоциации историков. Нежелание принимать воздаваемые обществом почести можно назвать такой же странностью Адамса, как его отказ ходить на чужие свадьбы (вплоть до 1906 г., когда исключение было, наконец, сделано для одной из "племянниц"). Однако в этом можно увидеть (наряду с частными изданиями книг, "для племянниц" и "для друзей") стремление умалить значение своей деятельности, оградить ее частным кругом понимающих, сочувствующих лиц.
"Титаник". Гибель "Титаника" отозвалась в жизни Генри Адамса апоплексическим ударом, от которого он так до конца и не оправился. Последние годы жизни он провел сначала в Париже, потом в Вашингтоне, читая, работая, занимаясь благотворительной деятельностью, слушая песни менестрелей XIII в. в исполнении своих "племянниц". Генри Адамс умер в возрасте восьмидесяти лет— 27 марта 1918 г., когда рубеж веков подошел к концу и в свои права вступил XX в.
— "Демократию" и "Эстер" — традиционно относят к так называемой литературе "второго ряда". Их изучение, тем не менее, важно для понимания творческого пути писателя, в конечном итоге отыскавшего наиболее подходящий для себя жанр и выработавшего собственный оригинальный стиль. Более того, "Демократия" во многом непосредственно предвосхищает "Воспитание", по крайней мере его главы, посвященные правлению Улисса Гранта. В образе главной героини — Маделины Лайтфут Ли — критики отмечают многие черты личности самого Адамса. Миссис Ли — богатая молодая вдова, постоянно проживающая в Нью-Йорке — переезжает в Вашингтон, чтобы "проникнуть в самое сердце великой тайны американской демократии и правления"10. Ее цель— познание и воспитание, приобщение к национальной истории — очень схожа с той, которая руководила и автором. Интерес Маделины к Конгрессу и Белому дому скорее частный, дилетантский, чем профессиональный: "она решила выяснить, какие удовольствия можно получить от политики" (10; с. 9).
Среди мотивов переезда в Вашингтон упоминается и жажда власти, однако власть героиня понимает довольно абстрактно: "Ее привлекало... столкновение интересов — интересов сорокамиллионного народа и целого континента, сконцентрировавшихся в Вашингтоне и управляемых, сдерживаемых, контролируемых людьми обыкновенного склада (или, напротив, не поддающихся их влиянию и контролю), гигантские силы управления и механизм общества в действии" (10; с. 12). Маделина выступает в роли неофита, стремящегося проникнуть в тайну тайн, найти ключ к первоистокам государственной мощи; ее честолюбие, как мы видим на протяжении всей книги, чуждо низких целей, связанных с личной выгодой. В начале романа героиня читает немецких философов в оригинале — именно философия или, точнее, разочарование в ней приводит ее в Вашингтон. Лишь в финале автор предлагает более тонкую, "женскую" мотивацию интереса Маделины к политике: потеряв мужа и ребенка, тридцатилетняя вдова стала тяготиться бездействием, испытывая мучительную зависть к тем женщинам, "чья жизнь была наполнена, а инстинкты удовлетворены"; с помощью новой для себя деятельности она стремилась заполнить 'зияющую пустоту, образовавшуюся, когда судьба лишила ее семейного счастья" (10; с. 171). По иронии, жажда познания и действия едва не привела миссис Ли к вторичному замужеству, что заставляет ее горько вопрошать: "Неужели семья — это единственный удел женщины? Неужели нельзя найти других интересов за пределами семейного очага?" (10; с. 170). Андрогинность героини, таким образом, отчасти преодолевается в финале: за "мужскими" чертами характера Маделины обнаруживается женская беспомощность и неудовлетворенность, которая принимает отчетливо депрессивные формы: миссис Ли говорит о том, что жизнь отвратительна и что она хотела бы умереть. Как опять же нередко подчеркивается в критике, одним из прототипов героини "Демократии", безусловно, была миссис Адамс11; у четы Адамсов не было детей; Мариан страдала приступами депрессии задолго до смерти отца. Из нескольких намеченных перед ней путей Маделина, правда, выбирает, не самоубийство, как это сделает Мариан, а туризм — как Адаме шестью годами позже: разочарованная и потрясенная миссис Ли отправляется за утешением в Египет.
"Демократией", поскольку почти у каждого персонажа есть хотя бы один. Так, у Маделины их, по крайней мере, три. Кроме Адамса и миссис Адаме, это некая миссис Биджлоу Лоуренс, богатая вдова и соседка Адамсов. Младшая сестра миссис Лоуренс — Фэнни Чапмэн — послужила моделью для сестры миссис Ли, Сибиллы Росс. На Лафайет-стрит было хорошо известно, что сенатор Джеймс Блейн — самый "узнаваемый" прототип романа, прообраз коррумпированного сенатора Сайласа Рэтклифа — испытывал к миссис Лоуренс особую симпатию, по поводу которой Мариан однажды заметила: "Если бы Блейн был вдовцом, она бы недолго оставалась вдовой" (11; р. 93). В романе Адамса Рэтклиф холост, что позволяет ему строить матримониальные планы в отношении Маделины. У автора "Демократии" были личные причины не любить Елейна. Он дважды проголосовал против выдвижения кандидатуры Чарльза Фрэнсиса Адамса старшего на президентские выборы. К тому же, Блейн был известен своей нечистоплотной политикой. Скандальная история с железнодорожной компанией в 1869 г. почти с точностью переносится в роман: Рэтклиф, как и Блейн, за взятку помогает крупному тресту получить правительственную субсидию (11; р. 89). Никто из читателей не сомневался, что Рэтклиф — это Блейн; их безусловное сходство было вполне осознанным политическим шагом Адамса.
Что касается прототипов президента, то здесь автор поступил ос-торожнее: *его президент— это так называемый "сборный" образ, соединивший в себе неотесанность уроженца Запада Линкольна, грубость и непритязательность Гранта, шокирующую посредственность Хейза (11; р. 93). Жена президента, которую, по словам миссис Ли, она не наняла бы даже в кухарки, была во многом списана с миссис Хейз. Из религиозных соображений первая леди страны запретила вино, бильярд и карты в Белом доме, а также ввела в моду закрытые платья с длинными рукавами — так и в романе Адамса супруга президента негодует по поводу выписанных из Парижа платьев миссис Ли ii ее сестры и обещает положить конец "подобным безобразиям" (Ю; с. 202). Сильной стороной Адамса, безусловно, был личный опыт знакомства с политической "кухней" во всем ее неприглядном виде. Тем более курьезными были те газетные рецензии после публикации романа, в которых утверждалось, что анонимный автор "в действительности никогда не вращался в лучшем столичном обществе" ("Бостон транскрипт"). Рецензенты доходили до того, что обвиняли Адамса в светской неискушенности, провинциальности и незнании исторических фактов (!) (11; р. 87). Тем временем вашингтонские знакомые Адамса угадывали себя в Натаниэле Горе, бароне Якоби, Виктории Сорви и других персонажах романа.
Несмотря на то, что герои действительно были "узнаваемы", Адамс наделил сразу нескольких персонажей, подобно миссис Ли, чертами собственного характера — мнение, с которым опять же трудно не согласиться. Мистер Френч, член конгресса от штата Коннектикут, является поборником реформ и терпит сокрушительное поражение в споре с Рэтклифом — во многом, как и сам Адаме, который мечтал о реформах и при Гранте оказался не у дел. Образ Натаниэля Гора, уроженца Массачусетса и автора "Истории испанцев в Америке", тоже отсылает к автору. Гор — это до некоторой степени герой-резонер романа. По крайней мере, именно ему принадлежит речь о демократии, под которой Адамс скорее всего поставил бы свою подпись: "... Я допускаю, что демократия— это единственный путь, по которому обществу стоит идти, единственная концепция его функций, достаточно широкая, чтобы удовлетворить его стремления, единственный результат, который стоит усилий и риска. Всякий другой возможный шаг есть шаг назад, а я не хочу повторять прошлое" (10; с. 45). Наконец, мистер Каррингтон — положительный герой романа и характерный типаж "печального южанина", — занимается адвокатской практикой, которой вполне мог бы заниматься и Адамс. Политик Френч, историк и несостоявшийся посол Гор, юрист Каррингтон — все это до различной степени ипостаси авторского "я".
В построении системы образов Адамс пошел по достаточно простому пути. Он сгруппировал почти всех своих героев вокруг миссис Ли, поставив ее в центр небольшого вашингтонского кружка. Практически каждый мужской персонаж испытывает к Маделине большую или меньшую сердечную привязанность; политические баталии получают характер любовного соперничества. В Маделину без памяти влюблен Каррингтон, она нравится Гору и небезразлична старому цинику, болгарскому послу Якоби; миссис Ли восхищается английский посол лорд Скай, наконец, на нее делает свою "ставку" Рэтклиф. На долю ее сестры — очаровательной юной особы, играющей важную роль в основной интриге романа, — приходится, что характерно, внимание второстепенных, чисто функциональных персонажей, вроде молодого еврейского финансиста Шнейдекупона или русского посла Попова.
такой же трюк с Маделиной, прибегая "к привычным ему методам политической коррупции в отношении слабого пола" (10; с. 127). Заняв пост министра финансов в Белом доме, он делает вид, что советуется с миссис Ли относительно каждого своего решения. И она начинает верить, что наконец-то прикоснулась к источнику политической власти. Рэтклиф терпит неудачу отчасти потому, что недооценивает "противника". Миссис Ли оказывается гораздо меньше заинтересованной в политике, чем полагает сенатор: по крайней мере, она не готова идти на сделки с совестью. Разоблачительное письмо мистера Каррингтона становится решающим: героиня с негодованием отворачивается от "человека, который вместо того, чтобы по законам справедливости сидеть в тюрьме, благодаря удачному мошенничеству сидит в министерском кресле" (10; с. 186). Но и сама миссис Ли, до чтения рокового письма, почти готова подменить семейные узы политическим союзом.
уступает место закулисной политической игре. Влюбленный в Маделину барон Якоби сетует на старость: "Из чего Каррингтон справедливо заключил, что в былые времена, когда подобные действия еще не вышли из моды, старый дипломат непременно нанес бы сенатору оскорбление и всадил ему пулю прямо в сердце" (10; с. 62). Между Якоби и Рэтклифом происходят словесные поединки, которые, в конце концов, венчаются карикатурной дуэлью: возвращаясь от Маделины, Рэтклиф грубо отталкивает явившегося с визитом Якоби, за что получает удар тростью в лоб. Эта написанная в теккереевской манере сцена (лорд Стайн и Родон Кроули меняются местами) иронически оттеняет драму "утраченных иллюзий" миссис Ли. Старый Якоби оказывается верен себе и остается в проигрыше: его высылают из страны. Рэтклиф, напротив, быстро сообразив, "какой фатальной ошибкой станет для него, человека еще молодого и сильного, избиение дряхлого дипломата" (10; с. 187), вовремя ретируется и отделывается небольшим скандалом. Из противостоящих сенатору персонажей самым успешным образом, как выясняется, действует Каррингтон, получивший доступ к секретным, шифрованным документам — чисто политическому средству борьбы: удар, нанесенный Рэтклифу, не требует даже его физического присутствия. Сенатор думал, что "убрал" соперника, выхлопотав ему хорошее место юрисконсульта в Мексике (еще один теккереевский обертон), но проглядел союзника или, точнее, союзницу — мисс Сибиллу Росс, которая передала письмо сестре в нужный момент. Рэтклиф, таким образом, представлен в романе как незаурядный и умный политик, и вместе с тем политик ограниченный, делающий просчеты: он недооценил Сибиллу точно так же, как и Маделину, — отчасти потому, что в политике привык иметь дело с мужчинами, а не с женщинами: в "Демократии" уже пунктирно прорисовывается идея женского превосходства — основной мотив более поздних работ Адамса.
— один из самых убедительных в "Демократии": очевидно, Адамсу-историку и биографу важно было иметь перед глазами конкретный исторический портрет. Любопытно, что даже "холодные, стальные, свинцово-серые глаза" сенатора (10; с. 19) были взяты у Блейна. Уроженец Новой Англии, Рэтклиф сделал себе карьеру на Западе, поднявшись на волне аболиционистского движения. Он — сенатор от Иллинойса, отсюда его прозвище Колосс Прерий. Сибилла, которая боится, что Рэтклиф увезет ее сестру в "родную Пеонию", рисует в своем воображении мрачную картину ее будущей жизни в американском захолустье: "Маделина сидит на диване, набитом конским волосом, перед железной печкой в убогой комнатке с белеными голыми стенами, украшенными лишь несколькими литографиями, рядом столик с мраморной столешницей, а на нем — стеклянная ваза с засохшими иммортелями; единственное ее чтение — журнал Фрэнка Лесли и "Нью-Йорк леджер", и по всему дому стоит сильный запах кухни" (10; с. 164). Видение Сибиллы состоит из набора штампованных представлений о диком Западе, автор торопится осудить ее невежественность. И все же политическое происхождение Рэтклифа является символически нагруженным в романе. "Пеония" — столь же экзотическое название, как и Скенектеди в "Дэзи Миллер" Генри Джеймса (разве что Скенектеди — город в штате Нью-Йорк), а картина, описанная Сибиллой, заставляет вспомнить заднюю веранду фазенды Сан-Диего в его же "Осаде Лондона". Западный штат— знак того, что Рэтклиф политик нового толка, отказавшийся от ново-английского наследия "весьма почтенной семьи... не то Вермонта, не то Нью-Гэмпшира, а возможно, и Массачусетса" (10; с. 19) ради провинциального электората.
В отличие от нью-йоркской аристократки миссис Ли, Рэтклиф неотесан и небогат; более того, он невежествен — на чем играет Якоби, заговаривая с сенатором по-французски и расставляя ловушки, в которые тот легко попадает, например, перепутав Мольера с Вольтером. Показательна сцена, когда сенатор обнаруживает у Маделины том Дарвина. Свое невежество, к тому же воинствующее, Рэтклиф прикрывает политической риторикой: "Такие книги, — начал он, — позор для нации. Они унижают и искажают нашу божественную натуру. Они хороши лишь для азиатских деспотий, где человек низведен до уровня скота" (10; с. 57). Азиатские деспотии— намек на несовместимость Дарвина и демократии. Ирония Адамса достигает кульминации, когда в конце своей филиппики Рэтклиф взывает к "принципам свободы", которые должна исповедовать Маделина. Внутреннее противоречие монолога сенатора: демократия, свобода — и нежелательная книга! — совершенно очевидно. Вместе с тем, вся риторика Рэтклифа строится на таких противоречиях, плохо прикрываемых общими местами. "Миссис Ли слушала очень внимательно. — И вы ни разу не отказались идти вместе с партией? — спросила она. — Ни разу, — твердо сказал он. — Значит, для вас нет ничего дороже верности партии? — задумчиво спросила она. — Ничего, кроме верности своей стране, — прозвучал ответ еще тверже" (10; с. 47).
— главный козырь в игре краплеными мистера Рэтклифа. Каррингтон намекает на историю с подлогом голосов на выборах в штате Иллинойс во время Гражданской войны, но Рэтклиф с легкостью выходит из затруднительного положения: да, он подтасовал итоги выборов, но это было сделано во имя спасения страны от раскола. "Каррингтон не достиг своей цели. Тот, кто совершает убийство ради отечества, уже не убийца, а патриот, даже если долей добычи получает место в сенате" (10; с. 60). Более того, Рэтклиф использует совершенное им должностное преступление как аргумент в свою защиту, когда Маделина в конце романа обвиняет его во взяточничестве. "Разве я здесь, на этом самом месте, не изложил вам свою позицию в истории куда менее невинной, чем эта, когда Каррингтон бросил мне вызов? Разве не сказал вам тогда, что нарушил свято соблюдаемые законы всенародных выборов и подтасовал их результаты?... Но ведь по сравнению с этим история с деньгами— пустяк..." (10; с. 181). В первом случае он якобы был верен стране, во втором — партии, которой не хватало денег. За казуистикой Рэтклифа стоят, однако, более серьезные проблемы, которые поднимает роман Адамса. Совместима ли политика с моралью? Как примирить абстрактные идеалы демократии с реальным положением вещей? Наконец, можно ли преступить закон, даже ради собственного народа?
О том, что проблема демократического общества в современных политических обстоятельствах была далеко не безразлична Адамсу, свидетельствуют введенные в композицию романа экскурсы в национальное прошлое страны. Дважды основная сюжетная линия прерывается интермедиями: поездкой в Маунт-Вернон в VI главе и в Арлингтон в IX. Главы как бы нарушают "единство места" романа — история взаимоотношений миссис Ли и Рэтклифа разворачивается в Вашингтоне: на светских раутах, в зале заседания конгресса, в гостиной дома на Лафайет-стрит. Обе поездки (в первой участвует вся компания, во второй — Каррингтон и Сибилла) не только размыкают городское пространство романа, но и помогают придать происходящему историческое измерение. Маунт-Вернон и Арлингтон отмечают собой две вехи в истории США — Войну за независимость и войну между Севером и Югом.
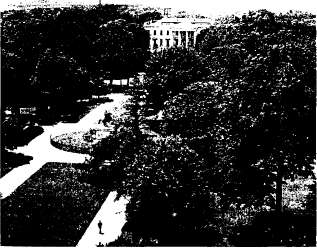
В центр VI главы (поездка в Маунт-Вернон) поставлена, что вполне закономерно, фигура первого президента США. Портрет Вашингтона, во всей его противоречивости, складывается из различных мнений о нем участников прогулки. "Ну скажите нам, в общих чертах, каким, по-вашему, был Джордж Вашингтон", — просит ветреная американка Виктория Сорви ирландского лорда Данбега (10; с. 67). Данбег дает "официальное" описание "наружности Вашингтона, соединив в нем портрет кисти Стюарта и гриновскую статую Юпитера с чертами генерала Вашингтона, стоящую перед Капитолием" (10; с 67). Это взгляд со стороны, более того, взгляд иностранца, желающего польстить своим американским знакомым. Виктория слушает Данбега с выражением превосходства: ее дедушка "был накоротке" с президентом, и уж она-то знает, кем был настоящий Вашингтон — обыкновенный фермер, тощий, неуклюжий, необразованный, скучный, "к тому же дурного нрава, ругался самыми скверными словами, а после обеда всегда бывал под хмельком" (10; с. 68). За идеальной скульптурной маской проступают неприглядные, отталкивающие черты.
— "мог хотя бы раз выйти за пределы Маунт-Вернона" (10; с. 73). Для уроженца Новой Англии Натаниэля Гора Вашингтон— прежде всего виргинец, чье "сердце целиком было отдано Маунт-Вернону": "Что сделал Вашингтон для нас? Он ведь даже и не притворялся, что мы ему не по нраву" (10; с. 73). Гор затрагивает важную для самого Адамса проблему — проблему идеализации президента. "И тем не менее мы боготворим генерала Вашингтона. Для нас он олицетворение Нравственности, Справедливости, Долга, Истины; все это и с полдюжины римских богов, которые пишутся с прописной буквы" (10; с. 74). Монолог Гора дополняет портрет, нарисованный лордом Данбегом (ср.: статуя Юпитера с чертами Вашингтона — полдюжина римских богов) — но, в отличие от Данбега, Гор ироничен. Есть Вашингтон-человек, который не жаловал северян и любил сельскую жизнь, и есть Вашингтон — отец Соединенных Штатов Америки, набор абстрактных истин и достоинств, перед которыми должны преклоняться все американцы без исключения.
"Последнее слово" о Вашингтоне остается за двумя антагонистами — Рэтклифом и Каррингтоном, причем разногласие в их взглядах переходит в открытый спор. Рэтклиф с готовностью подхватывает шутливый тон Гора. В детстве его заставляли заучивать наизусть Прощальную речь президента, однако "Запад — плохая школа для почитания кумиров" (10; с. 74). "Честный служака", "добропорядочный, дотошный президент"— все эти качества Вашингтона упоминаются Рэтклифом вскользь, их заслоняют собой посредственность, незначительность, никчемность. "В нынешнем правительстве не меньше десятка людей, равных ему по способностям, но мы не станем делать из них кумиров" (10; с. 74). Более того, Вашингтон даже не был политиком. "Он стоял вне политики. У нас бы сегодня это бы не прошло" (10; с. 76). Снисходительность Рэтклифа вызывает язвительную реплику Каррингтона: "Мистер Рэтклиф хочет сказать, что Вашингтон был слишком порядочен для нашего времени" (10; с. 76). Для виргинца Каррингтона Вашингтон, безусловно, кумир и идеал для подражания. Любопытно, что в начале романа миссис Ли сравнивает самого адвоката с Вашингтоном: "Он — личность.... Таким я представляю себе Джорджа Вашингтона, когда ему было тридцать" (10; с. 18). Чтобы защитить Вашингтона от нападок Рэтклифа, Каррингтон выбирает тонкую стратегию — он не следует традиции официозного восхваления отца-основателя, но, на правах человека знающего, рассказывает анекдотические истории о "прижимистости генерала по части денег" (Рэтклиф обвинил Вашингтона в скупости). Одна из таких историй — Вашингтон потребовал, чтобы трактирщик сравнял его счет и счет его слуги — призвана показать, что мелочность президента проистекала не из скупости, но из чувства справедливости: у великого человека могут быть странности, не имеющие ничего общего с "низменностью" чувств (10; с. 76). Каррингтон, даже в большей степени, чем Данбег, мифологизирует Вашингтона: фигура, о которой ходят легенды и рассказываются анекдоты, кажется недосягаемой.
В своих работах Адамс-историк стремился лишить первого президента мифического ореола, затемняющего его и как историческую личность, и как человека. Тем более интересно, что в романе происходит как бы самоустранение авторской позиции. Более того: самыми ярыми противниками идеализации Вашингтона оказываются легкомысленная сплетница и коррумпированный сенатор. Даже Гор, мнение которого можно назвать до определенной степени авторским, в конце концов, говорит о Вашингтоне в высоких тонах и уже без иронии: "Если бы остальные наши президенты были такими, как он... на нашей короткой истории значилось бы меньше безобразных пятен" (10; с. 77).
— едва ли не единственная из всех — не высказывает никакого суждения о Вашингтоне. Но, покидая Маунт-Вернон, она начинает испытывать недовольство собой. "Чистый воздух" этих мест не имеет ничего общего с "густыми испарениями большого города" (10; с. 79). Оппозиция чистоты и грязи мгновенно переводится в метафорический регистр: "Неужели она, сама того не зная, уже впитала грязь окружающей жизни? Или прав Рэтклиф, равно принимающий и добро и зло, являющийся частью своего времени, поскольку он в нем живет? Почему, с горечью спрашивала она себя, все, чего коснулся Вашингтон, он очистил от скверны, вплоть до ассоциаций, связанных с его домом? И почему все, чего касаемся мы, кажется оскверненным? Почему, глядя на Маунт-Вернон, я чувствую себя нечистой? Не лучше ли — вопреки всему, что говорит Рэтклиф, — оставаться ребенком и желать того, чего нет и не будет на свете?" (10; с. 79) Словно в подтверждение мыслей миссис Ли, к ней подбегает маленькая девочка и начинает играть ее зонтиком. Но эта девочка — дочь миссис Сэм Бейкер, по чистой случайности совершающей поездку в Маунт-Вернон на том же пароходе. Благодаря миссис Бейкер, клиентке Каррингтона, Маделина узнает о грязной истории с субсидиями, в которой замешан Рэтклиф. Независимо от отношения героев и автора к первому президенту, зазор между прошлым и настоящим, Маунт-Верноном, Вашингтоном, Просвещением и "позолоченным веком" очевиден. Зазор во всей полноте ощущается миссис Ли, на уровне не столько интеллектуальной рефлексии, сколько чувственного восприятия. Чистый воздух Маунт-Вернона предвосхищает "покой", к которому Маделина устремится в финале: "когда мы будем жить подле великих пирамид и наблюдать только Полярную звезду" (10; с. 187).
— ее недавнее прошлое, Гражданскую войну. Для Сибиллы война между Севером и Югом успела стать сухим историческим фактом: «тогда ее куда больше интересовала битва при Ватерлоо; она как раз читала "Ярмарку тщеславия" и оплакивала судьбу бедной Эмми, чей муж Джордж Осборн лежал на поле сражения с пулей в сердце» (10; с. 114). Тем не менее, на Сибиллу производит сильное впечатление длинный ряд белых могильных камней, под которыми — сотни таких же, как Джордж Осборн, солдат федеральных войск. Гражданская война, далекая и абстрактная, неожиданно бросает тень на настоящее: "Каррингтон — предатель! Каррингтон — убийца ее друзей!" (10; с. 115) Но вот мисс Росс посещает разоренный северянами дом генерала армии южан Роберта Ли — и приходит в еще больший ужас. Если Каррингтон — мятежник и "предатель", то войска северян — "орда грубых захватчиков", "полчища Аттилы". Перед двадцатипятилетней девушкой открывается "живая история" (10; с. 117), во всей неоднозначности ее оценок.
Сам Генри Адамс был, безусловно, всецело на стороне Союза, но войну воспринимал как чудовищное бедствие для страны, которое разумнее было бы предотвратить. Отвращение к рабству не исключало особой привязанности к Виргинии, знакомой Адамсу с детских лет. В IX главе, как и в VI, история не дает "готовых" ответов. Тем не менее, Арлингтон выбран не случайно. Северянка Сибилла Росс и южанин Каррингтон именно здесь заключают свой союз в борьбе против Рэтклифа. "Союз наступательный и оборонительный, — рассмеялся Каррингтон. — Война против Рэтклифа будет не на жизнь, а на смерть. Если потребуется, мы снимем с него скальп, но, мне кажется, если мы предоставим ему свободу действий, он сам сделает себе харакири" (10; с. 120). Рэтклиф становится олицетворением сил зла. После отъезда Каррингтона Сибилла со страхом думает, каким образом она одна будет "сражаться с темнотой и опасностью", обступившими ее (10; с. 141). В годы Гражданской войны на стороне "правого дела" не всегда были порядочные люди: Рэтклиф сделал себе политическую карьеру на аболиционизме — и наоборот: Каррингтон, втянутый в войну, был скорее жертвой, чем "убийцей". Таким образом, Маунт-Вернон и Арлингтон не только задают необходимую историческую перспективу для понимания основной сюжетной линии романа, но и формируют определенную метафорическую рамку: чистота и грязь в первом случае, союз единомышленников и борьба со злом во втором.
Нужно сказать, что изображая современную демократию, Адамс актуализирует самые различные метафорические ресурсы, причем, ряды метафор нередко пересекаются, вступая между собой во взаимодействие, образуя сложные соединения. Прежде всего это метафоры механизма, машины. В начале романа Маделина ощущает себя пассажиром парохода, "который не находит себе покоя, пока не спустится в машинное отделение и не потолкует с механиком" (10; с. 11): ей хочется "потрогать собственными руками гигантский механизм, приводящий в движение общество" (10; с. 12). По мере повествования механизм принимает гротескные и даже угрожающие черты. В финале говорится о том, что героиня "едва не попала под колеса чудовищной машины, что привело бы к ее преждевременной гибели" (10; с. 173). Рычаг власти и готовые раздавить колеса — части одной и той же машины, получающие, однако, различную эмоционально-смысловую нагрузку.
Другой метафорический ряд представляют образы театра: Маделина хочет затесаться в толпу статистов, чтобы одновременно наблюдать за ходом сценического действия и заглядывать за кулисы, видеть и актеров, и режиссера (10; с. 13). Но уже первое зрелище — прием, устроенный президентом в Белом доме — вызывает у нее отвращение. Президент и его супруга напоминают восковые фигуры, заводные куклы и автоматы (10; с. 50). Именно соединение метафорических рядов определяет основную смысловую нагрузку эпизода, его оценку героями, его тональность в контексте романа. Весь церемониал — это "шутовское обезьянничание монархических ритуалов" (10; с. 51). Вместо драмы — фарс, вместо первоклассной игры— механические, марионеточные движения: "Минуту-другую они (Маделина и лорд Скай.— А. У.) стояли молча, наблюдая медленно змеившийся танец демократии". К карлейлевской метафоре танца (ср.: танец революции в его "Французской революции") Адамс обращается не раз на протяжении повествования: "Танец демократии вокруг президента теперь возобновился с еще большей силой" (10; с. 92); "Этот дикий перепляс шел на его (президента. — А. У.) глазах с зари до полуночи, пока от попыток хоть что-то понять у него не начала пухнуть голова" (Ю; с. 93).
и не проникла к истокам демократии, она "добралась до самой сути политики в той мере, в какой врач со своим стетоскопом докапывается до причины болезни" (10; с. 179). Политик вроде Рэтклифа— это человек с атрофированным нравственным чувством, дальтоник, не различающий добра и зла.
Эффект перегруженности романа метафорами возникает неслучайно. Одна из особенностей повествования заключается в его риторическом, декларативном характере. Автор эксплицирует внутренние переживания и мысли героев, а также мотивы их поведения, что создает впечатление некоторой статичности, абстрактности характеров, которые раскрываются или в развернутых авторских комментариях, или в прямой речи. В ряде случаев автор обращается "за помощью" к литературным авторитетам — Теккерею, Свифту, Диккенсу, чтобы прояснить тот или иной момент своего романа. Вместе с тем, в "Демократии" есть и менее явные аллюзии на литературные произведения, среди которых— уже упоминавшиеся "теккереевские сцены", равно как и "говорящие" фамилии в духе того же Теккерея или литературной традиции XVIII в. (вроде Лайтфут — "Легконогой" или Сорви: в оригинале Dare; 10; с. 98).
Если первые профессиональные читатели "Демократии" обвиняли ее автора в дилетантизме и отсутствии высокой художественности, американские газеты обсуждали сюжет и его верность политической реальности. В Англии роман стал настоящей сенсацией; анонимный писатель попал в один ряд с Хоуэллсом и Джеймсом. Помимо сенсационности политических разоблачений, главной интригой была личность автора. Началась увлекательная (не в последнюю очередь для самого Адамса), почти детективная история поиска сочинителя. Авторство приписывалось — сочувствующему южанам английскому писателю; вашингтонскому джентльмену; даме из вашингтонского общества (11; р. 99). Сенатор Блейн посчитал, что автор— друг Адамса, Кларенс Кинг; брат Генри, Чарльз Фрэнсис Адамс, давший нелестную оценку книге, был убежден, что "Демократия" была написана тем же лицом, что и вышедший впоследствии анонимный роман "Кормильцы" {Breadwinners, 1883), в действительности роман Джона Хея. Даже Мариан Адамс — и та оказалась в числе претенденток. «Меня очень позабавило, но не удивило твое предположение, будто я написала "Демократию", — призналась Мариан в письме отцу, — поскольку я уже попала в "черный список" вместе с мисс Лоринг, Артуром Седжвиком, Мантоном Марблом, Кларенсом Кингом и Джоном Хеем...»(11;р. 100).
Генри Адамс, который, по свидетельству людей, его близко знавших, любил заниматься самонаблюдением, смотреть на себя как бы со стороны, безусловно, испытывал ко всему происходящему неподдельный интерес. Анонимную публикацию романа можно назвать его первым экспериментом по воображаемому отчуждению собственного "я": Адамс, историк, человек, вращающийся в высших кругах вашингтонского общества, тайно следил за литературной карьерой автора "Демократии", которого превозносили, критиковали, обвиняли в антипатриотических чувствах, ставили в пример, раскупали, наконец, рядили во всевозможные одежды, национального и иностранного покроя, мужского и дамского шитья. Любопытно, что метонимическое замещение личности одеждой, вдохновленное "Sartor Resartus" Карлейля и столь важное в "Воспитании Генри Адамса", появляется уже в "Демократии". "Маделина анализировала свои чувства, пытаясь разобраться, насколько они подлинные; она имела обыкновение отчуждать от себя свои переживания, словно сбрасывала платье, и разглядывать их, как если бы они принадлежали кому-то другому, словно чувства были материальны и скроены, как одежда" (10; с. 114).

"Маскарадное платье" (портрет жены художника). 1911
"Демократией" роман "Эстер" не вызвал столь бурного общественного резонанса. И хотя в "Эстер" затрагивается актуальная, даже болезненная для рубежа веков тема, он носит во многом более камерный, "частный" характер, на что указывает уже вынесенное в заглавие имя главной героини. Место действия переносится из Вашингтона в Нью-Йорк, центром повествования, вместо Белого дома, становится собор Св. Иоанна, проблемный узел образуют вопросы не общественно-политического, а нравственно-религиозного характера. "Эстер" скорее как бы дополняет "Демократию": критики не случайно предпочитают рассматривать их в паре. Сюжет "Эстер", как и сюжет "Демократии", — это история несостоявшегося замужества: Эстер Дадли, как и МаДелина, спасается от жениха бегством, предпочитая одиночество нежелательному браку. Но в отличие от Маделины, Эстер любит мистера Хазарда, да и самого священника Стивена Хазарда нельзя назвать подлецом и интриганом, как сенатора Рэтклифа. Не разоблачение, но постепенное осознание героиней невозможности их союза инициирует разрыв.
В этом смысле в "Эстер" дана более тонкая психологическая мотивировка отношений между персонажами; душевная драма Эстер помещается в центр, тогда как сюжетная интрига отодвигается на второй план. Роман, который едва не завязывается между художником, мистером Уортоном, и Кэтрин Брукс, юной девушкой из Колорадо, опекаемой Эстер и ее тетушкой, история прошлой жизни Уортона во Франции, неожиданное возвращение его жены-француженки, развод — все эти элементы, представляющие собой прежде всего "сюжетный" интерес, оттеняют дескриптивные паузы, связанные с линией Эстер. Любопытно, что литературность данных элементов подчеркивается в самом романе. Мистер Хазард приходит в дом Дадли, чтобы рассказать о странных событиях, связанных с приездом жены Уортона, и предваряет свое повествование следующей репликой: "Если вы читали Тургенева, вы можете себе представить, что мы пережили. У меня такое чувство, будто я украл главу из его произведения"12. По сравнению с "тургеневской" историей Уортона, смерть старого мистера Дадли и драма Эстер кажутся более реальными, подлинными; в дальнейшем линия Кэтрин и Уортона и вовсе сходит на нет, так и не завязавшиеся отношения ничем не заканчиваются.
"свободна" от литературных ассоциаций. "Кто она? Ее имя кажется мне знакомым", — недоумевает Хазард. На что кузен Эстер, Джордж Стронг, отвечает: "Столь же знакомым, как и Готорн. Так назван один из его рассказов. Ее отец происходит из старинного пуританского рода Дадли, вот ему и понравилось имя, которое он встретил в одной из готорновских историй" (12; р. 220). Имеется в виду рассказ Готорна "Старая Эстер Дадли", но, как справедливо отмечают критики, Адамс здесь намекает на еще одну Эстер — Эстер Принн из "Алой буквы". В центре обоих романов — драматические отношения главной героини со священником, причем и Артур Диммсдейл, и Стивен Хазард неистово преданы своему религиозному призванию. Адамс, правда, перенеся действие из пуританской Новой Англии в современный Нью-Йорк, существенно смещает акценты. В век скептицизма и ценностного релятивизма церковь напоминает оперу, служба— театральное представление, а паства — арабские кочевые племена: "глупо говорить о спасении души нью-йоркцам, у которых", по словам Джорджа Стронга, "нет души и значит нечего спасать" (12; р. 217). Вместе с тем, прихожане Хазарда, как и ново-английские пуритане в "Алой букве", осуждают Эстер Дадли и ее помолвку: жена священника должна верить в Бога, а Эстер — атеистка. "... Его (Хазарда. — А. У.) влияние было огромным; но не настолько, чтобы предотвратить скандал, который вызвал бы его брак с женщиной, известной своими радикальными взглядами. В этом он не сомневался, если уже одно подозрение, что они помолвлены, подняло бурю в стакане воды. Наиболее ортодоксальные прихожане были возмущены, и не без основания (...). Они прямо заявили, что мистер Хазард никогда не заставит их поверить в излагаемое им учение, если свяжет себя подобным союзом" (12; р. 320). Артур Диммсдейл отказывается порвать со своим призванием и бежать с Эстер Принн. В "Эстер" возможность бегства вдвоем только намечается, чтобы тут же быть отброшенной: "Иногда я хотел бы перестать думать о религии как о работе и просто получать от нее удовольствие. До чего было бы хорошо отправиться вместе в Японию и заняться рисованием" (12; р. 323), — говорит Хазард и сразу же спешит отказаться от необдуманного предложения, оставляя Эстер напрасные надежды.
— это нечто большее, чем профессия, это понимает Эстер и в конце концов вынужден признать сам Хазард. "Я последняя женщина на земле, которая годится вам в жены. Со временем я буду все меньше и меньше подходить на эту роль. — Вы бы думали так же, — переспросил он быстро, — если бы я был адвокатом или брокером? (...)— Нет! — сказала она.— Если бы вы были брокером, меня бы это вполне устроило" (12; р. 336). Во время последнего объяснения эта мысль звучит еще определеннее. Эстер говорит Хазарду: "Не моя вина, если вы и ваша профессия — единое целое; и из всех вещей на свете самое ужасное — быть замужем только наполовину. — Вы совершенно правы, — ответил он. — Моя профессия и я — единое целое, и это делает мою жизнь труднее, я должен выиграть две битвы, одну у любви, другую у долга..." (12; р. 367). Брак с Эстер становится равнозначным ее обращению. Социальная сторона предполагаемого замужества только оттеняет центральную в романе проблему нравственного выбора. Герои Адамса, без всякого сомнения, располагают куда большей свободой, чем герои Готорна: они не живут в строгой пуританской общине XVII в.; характерно, что отец Эстер, мистер Дадли, несмотря на пуританскую фамилию, проповедует атеистические взгляды. Общественное мнение имеет для них определенный вес — но Хазарда беспокоят не столько сплетни и кривотолки его прихожан, сколько их влияние на решение Эстер. Конфликт, таким образом, постепенно интериоризируется, что, однако, не снижает, а лишь усиливает напряжение в романе.
"его книги далеко не все были религиозными. Здесь было собрание самой разной классики, в том числе восточной литературы; поэзия на всех языках; множество романов и, что самое подозрительное, богатая коллекция иллюстрированных книг по египетскому, греческому, средневековому, мексиканскому, японскому и индийскому, а также любому другому искусству" (12; р. 219). Хазард не видит ничего предосудительного в чтении романов и в карточных играх, хорошо рисует, водит дружбу с художником Уортоном и геологом Стронгом. Репутация Уортона, который провел много лет в Париже и вращался в артистической среде, оставляет желать лучшего. Джордж Стронг — убежденный скептик, и Хазард мирится с его взглядами. Конфликт возникает лишь в самом конце, когда Стивен несправедливо подозревает друга в предательстве и — вполне справедливо — в более, чем родственных или дружеских чувствах к мисс Дадли. Хазард догматик только в том, что касается церкви; он успешно сочетает широту взглядов с безоговорочной верой в религиозные догмы. Таким образом, Адамс усложняет выбор своей героини. Хазард — подходящий муж для Эстер, не подходит только его профессия; сюжет о расторгнутой помолвке, тем самым, актуализирует волновавший Адамса вопрос о месте религии в жизни его современников, о возможности компромисса с верой как такового.
Важнейшим ключом к пониманию проблематики романа является, безусловно, характер Эстер. Известно, что роман был любимым детищем самого Адамса — возможно, отчасти потому, что в образе мисс Дадли, в значительно большей степени, чем в фигуре Маделины Лайтфут Ли, угадываются черты Мариан Адамс. Роман оказался до некоторой степени пророческим: кульминационным моментом повествования становится болезнь и смерть мистера Дадли, отца Эстер. Роман был написан за несколько лет до смертельной болезни и кончины отца Мариан, и это позволяет предположить, что Адаме предчувствовал силу удара, который предстояло перенести его жене. Эстер оказывается более стойкой, чем Мариан, но и она переживает тяжелейшую депрессию, только усугубившуюся ее драматическими отношениями с Хазардом.
"Демократии". Эстер уже нельзя назвать абстрактно-идеальной, как Маделину. Она некрасива, хотя и не лишена привлекательности; она не только не читает немецких философов в оригинале, но вообще читает мало; книги по теологии, которые она находит у отца и которые ей дает Хазард, вызывают у нее недоумение и в конечном счете неприятие. Эстер рисует, но рисует посредственно; так, Уортон убежден, и не без оснований, что Эстер никогда не станет первоклассным мастером, ее удел — дилетантство. При этом героиню отличает сила характера, как Эстер Принн, и оригинальность ума, как Изабель Арчер. Эстер похожа на героиню Джеймса, правда, иначе, чем Маделина. Об их сходстве или родстве говорит весьма показательная цитата. В начале романа Уортон признается, что его интересует мисс Дадли: "Я хотел бы узнать, как она поступит со своей жизнью. Она похожа на легко оснащенную яхту в открытом океане; там, где не ожидаешь ее увидеть; ты спрашиваешь себя, какого черта она здесь делает. Она радостно плывет, хотя земля далеко и ее яростно обступают волны. (...) Она все схватывает на лету, без усилий, и ничего по-настоящему не знает, но кажется, понимает все, что ей говорят. Ее ум такой же неправильный, как ее лицо, но в этом есть нечто совершенно особенное, своеобразное. Я заметил в линии ее бровей, носа и рта чуть устремленный вверх изгиб, почти как у парусов яхты, что придает выражению ее лица оптимизм и самоуверенность. У лица и ума одни и те же изгибы" (12; р. 223). В этом монологе несложно услышать отзвук разговора Ральфа Тачита с отцом: "Меня очень интересует моя кузина, но не в том смысле, в каком тебе бы этого хотелось. Меня ненадолго хватит, но я надеюсь еще несколько лет пожить и увидеть, что станется с Изабель. Она ни в чем от меня не зависит, и вряд ли я смогу всерьез вмешиваться в ее судьбу. Но я хотел бы кое-что для нее сделать.— Что же?— Наполнить ветром ее паруса"13. Приподнятость, устремленность вверх во внешнем облике Эстер тоже заставляет вспомнить об Изабель, фамилия которой, Archer (стрелец, лучник) — это и производная от арки, дуги, свода (arch).
Как и Джеймса, Адамса несомненно интересовала проблема американского характера — самобытного, еще до конца не оформленного, устремленного в неизвестность. За описанием Уортона следует вопрос Стронга: "Это твоя идея национального типажа?" (12; р. 223). Такие "американские" черты мисс Дадли, как сосредоточенность на проблеме выбора, прямота, сдержанность, самостоятельность, жизнестойкость и упорство, не случайно оттеняет более ярко выраженный "типаж", представленный мисс Брукс из Колорадо. В образе Кэтрин, непосредственной, невежественной и наивной девушки с дикого Запада, Адамс также следует устойчивой литературной традиции. В частности, он играет на противопоставлении Нового и Старого Света, невинности и искушенности, чистоты и порока. Жена Уортона, парижская натурщица и актриса, женщина с сомнительной репутацией, являет собой полный контраст мисс Брукс; эффект контраста создается еще и потому, что героинь дублируют их изображения на стенах собора Св. Иоанна. Собор расписывает Уортон — и придает ликам святых страдальческое выражение своей бывшей жены. Мисс Дадли пишет в нише портала Кэтрин в образе св. Цецилии. Недовольный ее работой, художник сам набрасывает портрет мисс Брукс: зауживает лицо, углубляет линии, делает глаза жестче и темнее, а лицо лет на десять старше. " — Где-то я видела глаза этой женщины, — говорит Эстер, встретив незнакомку у входа в собор. — А ты не знаешь где? — спросила Кэтрин, не дожидаясь вопроса. — Ну и где же? — На моем портрете. Мистер Уортон дал мне ее глаза. Я уверена, что эта женщина— его жена" (12; р. 278). Жена Уортона приезжает из-за океана, в потертой и грязной, одетой не по погоде меховой шапке польского или венгерского покроя, но одновременно она как бы сходит со стен собора, обретает плоть. Уортон буквально накладывает, как кальку, ее облик на портрет Кэтрин.
отказывается. Эстер не согласна с Уортоном в главном. Она не принимает его представления о вере как о мученичестве. "Для меня религия — это страдание. Чтобы попасть в рай, нужно пройти ад, и ад оставляет следы на твоем лице и теле. Я не могу изобразить невинность без греха, но вы можете, и церковь это любит" (12; р. 273),— объясняет Уортон мисс Дадли. Эстер идеи художника глубоко чужды. Чтобы Кэтрин стала св. Цецилией, ей не нужно меняться. "Если я буду ее писать, я буду писать ее такой, как есть. В ее лице больше ангельского, только бы мне суметь это передать, чем во всех святых мистера Уортона вместе взятых. И пусть я совершу святотатство, но я скорее буду верна ей, чем мистеру Уортону" (12; pp. 261-262). Уортон, прошедший западную школу, Италию и Париж, утрачивает присущую Эстер ясность восприятия — мисс Дадли не хватает только мастерства, чтобы осуществить свой замысел. Интуиция не обманывает Эстер: в Кэтрин воплощена сама невинность — столь чаемая первопоселенцами идея божественного начала в человеке до грехопадения, тогда как роспись Уортона рассказывает не только о страдании, но и о грехе. "А вы знаете, — спросила Эстер Хазарда, -— что мистер Уортон настаивает на том, чтобы я написала Кэтрин как сорокалетнюю, страдающую ревматизмом женщину?" (12; р. 261). Уортону Эстер говорит, что в соборе, благодаря его фрескам, появилась гротескная, театральная атмосфера; действительно, моделью для святых оказывается актриса небольшого парижского театра. Собор перестает быть сакральным местом, местом общения с Богом, и Эстер глубоко чувствует этот изъян.
сам похож на пророка из оперы Мейербера или на христианского мученика в амфитеатре. "Я чувствовал себя совсем как святой Павел, который молился Богу перед невежественными афинянами" (12; р. 220), — говорит Хазард. Он хорошо осознает, что лишь представляет святость и мученичество, и это является неотъемлемой частью его религиозной практики. Он пишет проповеди, они имеют успех и производят должное впечатление на паству, даже если их смысл понимают лишь немногие избранные. Хазард тщеславен, он привык к лести и успеху; Эстер не приходит на его службу, и он чувствует себя уязвленным, как актер или оперный певец, талант которого недооценили. Он искренне и страстно верит в Бога, но при всем при этом его вера предполагает компромисс.
В отличие от Хазарда, для Эстер компромисс неприемлем: она не терпит фальши, даже если эта фальшь необходима для высших целей. "В ней (Эстер.— А. У.) нет ничего средневекового,— рассуждает Уортон. — Если она чему-нибудь принадлежит, кроме настоящего, так это тому миру, о котором мечтают художники, миру, в который вернется язычество и где у каждого источника будет свое божество" (12; р. 223). В монологе Уортона, с его идеей неоязычества, звучат отголоски декадентства конца века. Но Уортон и прав, и не прав одновременно. В Эстер, действительно, нет ничего средневекового, но вместе с тем она гораздо ближе к идеалу мученичества, средневековому или античному, чем Хазард. Эстер ничего не представляет, она во всем хочет идти до конца. Символичной можно назвать сцену объяснения Эстер и Стронга. "Что тебе нужно, так это католичество, — не жалея ее, продолжал Стронг. — Они знают, что делать с гордостью и волей. Миллионы мужчин и женщин терзают себя так же, как и ты, и церковь говорит им: смотрите на символ веры, не отрываясь, и бичует их, если они отводят глаза. — Он взял маленькое резное распятие из слоновой кости, которое стояло на каминной полке вместе с разными безделушками, и, держа его перед собой, сказал: — Вот оно! Как ты думаешь, сколько людей приходило к нему, этому ничего не значащему для тебя Христу и, борясь с сомнениями, прижимало его к груди, пока из их сердец не начинала сочиться кровь? Спроси себя! — И это все? — спросила Эстер, взяв у него распятие и с любопытством его разглядывая. Затем она молча прижала его к сердцу и стала прижимать все сильней и сильней, пока встревоженный Стронг не схватил ее руку и не отдернул ее" (12; р. 319).
Эстер, в своем богоборчестве и сопротивлении, занимается самоистязанием, и эпизод с распятием лишь показывает, что она способна на очень многое. Эстер должна докопаться до правды, до самой сути вещей, она должна узнать, как все есть на самом деле. Ее бегство от Хазарда — поездка вместе с тетей, дядей и Кэтрин на Ниагарский водопад — проявление скорее силы и стойкости, нежели слабости. Стивен едет за ней, с твердым намерением не отступать. Его самолюбие задето, он хочет, чтобы все было так, как он задумал, — но он не может быть до конца честен даже с самим собой, ему нужен предлог, повод. "Это не борьба из эгоистических побуждений, — думал он. — Я пытаюсь спасти человеческую душу и я сделаю это, пусть даже мне предстоит сразиться со всеми силами тьмы..." (12; р. 346). Хазард входит в роль, рядится в борца за веру, облекает свою страсть, прихоть, привычку к успеху в духовные одеяния. И Эстер, со свойственной ей чуткостью, не может этого не почувствовать.
"Вы действительно хотите знать, почему я сломалась и убежала? Хорошо! Я вам скажу. Это случилось потому, что после жестокой борьбы с собой я поняла, что не смогу войти в церковь без чувства — без чувства враждебности к ней. (...) Вы рассердитесь на меня за то, что я сейчас скажу, но каждый раз, когда вы служили службу, мне казалось, что вы жрец в языческом храме и что нас разделяют века. Каждую минуту я почти что ждала, что вы схватите козла или барана и принесете его в жертву на алтаре. Как могла я, с такими мыслями, разделить с вами причастие?" (12; р. 368). И далее: "Наверное, мы живем в другом мире, но я не вижу ничего духовного в церкви. Все в ней индивидуально и эгоистично. Какая мне разница, молюсь ли я одному человеку, или трем, или трем сотням, или трем тысячам? Я не понимаю, как вы вообще можете молиться человеку" (12; р. 369).
— с неуместностью сакрального действа в современном мире, которое неизбежно превращается в подобие костюмированного представления. Хазард делает роковую ошибку, решив воззвать к "женским инстинктам" Эстер — к естественному желанию любой женщины встретить в загробном мире умерших родителей и детей. Это лишь окончательно отчуждает героиню, которой нужна истина, а не утешение: "Почему церковь взывает к моей слабости, а не к моей силе?" (12; р. 370). Эстер отказывается выйти замуж за Хазарда, потому что не способна себя обманывать.
Джордж Стронг, прототипом для которого послужил друг Адамса, Кларенс Кинг, предлагает Эстер то, чего не может ей дать Хазард: право ни во что не верить. На вопрос Эстер "истинна ли наука?" он отвечает отрицательно. "Тогда почему ты веришь в нее? — Я в нее не верю. — Тогда почему ты принадлежишь ей? — Потому что я хочу сделать ее более истинной, чем она есть" (12; р. 317). Характерно, что Стронг влюбляется в Эстер по мере того, как она демонстрирует силу своего характера. Если Хазарду нужно подчинение и единомыслие, Стронгу — партнерство на равных, и тем самым он оправдывает свою фамилию (strong — сильный). Роман заканчивается роковой фразой Эстер: "Но Джордж, я люблю его, а не тебя" (12; р. 371). Это опять-таки выбор мисс Дадли, столь же осознанный, как и разрыв помолвки с Хазардом— упущенный шанс или благоразумие, благодаря которому она избегает опасности ("hazard" означает "случай, шанс, возможность", но и "опасность", "риск"). Кстати, родные Эстер, прежде всего тетя и дядя, стремятся оградить ее от рискованного брака с Хазардом — почти так же, как сестра и друзья Маделины в "Демократии" пытаются предотвратить союз последней с Рэтклифом.
В "Эстер" Адамс избавляется от излишней декларативности, присущей "Демократии". Тем не менее, и здесь наблюдается тенденция к подробной экспликации мотивов и внутренних переживаний персонажей. Симпатия автора, безусловно, на стороне героини, однако его позиция, как и в "Демократии", тщательно замаскирована, как бы отодвинута на задний план. Отчасти Адаме наделил Эстер собственными сомнениями и тревогами в отношении религии. Так, в "Воспитании" мы читаем: "Впоследствии, когда Генри стал взрослым, многие обстоятельства его юности вызывали у него недоумение, и более всех остальных — утрата религиозности. Мальчиком он посещал церковь дважды каждое воскресенье, читал Библию, учил наизусть духовные стихи, исповедовал своего рода деизм, произносил молитвы, ... но ни у него, ни у его сестер и братьев не было подлинного религиозного чувства. Даже необременительные установления унитариан-ской церкви были им в тягость, и они при первой же возможности прекратили их выполнять, а потом перестали посещать и церковь.
Религиозное чувство атрофировалось и не могло восстановиться, хотя позже предпринималось немало попыток обрести его вновь". Здесь же утрату "одного из сильнейших человеческих чувств, уступающих разве что любви," Адамс называет "любопытнейшим социальным явлением, над объяснением которого он бился всю свою долгую жизнь" (5; с. 46). Пытливое вопрошание Эстер, ее внутренняя борьба и терзания — прямое следствие секуляризации общества, повсеместного безверия и потому тем более интересны для анализа. Роли резонера Адаме предпочитает позицию стороннего, хотя и сочувствующего наблюдателя.

"Письмо". 1879-1880
"Эстер" он занимает то же место, что Натаниэль Гор в "Демократии". И если Гору принадлежит монолог о демократии как форме общественного устройства, Стронг высказывает идеи, направленные на модернизацию религии, на ее переосмысление в контексте новейших научных представлений. Он не верит в Бога-человека и не верит в воздаяние по заслугам после смерти. Но вместе с тем, он принимает идею бессмертия: "Если наш разум постигнет хотя бы одну абстрактную истину, он будет бессмертен до тех пор, пока эта истина существует. (...) Если я правильно понимаю святого Павла, это и есть церковная доктрина, только из нее нужно убрать Троицу, на которой так настаивает Хазард" (12; р. 355). В то же время о самом Хазарде говорится, что он был истинно предан XIII в., во многом как и сам Адамс. Наконец, в уста Уортона, художника-декадента, Адамс вкладывает важнейшую идею, которая получит художественное воплощение в его следующей книге — "Мон-Сен-Мишель и Шартр": "Я хотел бы сейчас, невзирая на то, что уже сделано, вернуться к веку красоты и поместить Мадонну в церковь, в ее сердце. У этого места нет сердца". От "Эстер" к "Шартру" ведет прямая линия: от бездуховности современной жизни — к религиозности Средневековья, от церкви Св. Иоанна на Пятой авеню к Шартрскому собору. Адаме делает то, что мечтает сделать Уортон: помещает Мадонну в центр своего повествования и воздает ей должные почести.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Adams, Henry. Mont-Saint-Michel and Chartres. N. Y., Collier Books, 1963, p. 17.
3 Adams, Henry. Selected Letters. Ed. by E. Samuels. Cambridge, Mass,, and L., The Belknap Press, 1992, p. 488.
5 Адаме, Генри. Воспитание Генри Адамса. М., Прогресс, 1988, с. 32.
7 Samuels, Ernest. The Young Henry Adams. Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 1948. p. 234.
8 Levenson J. C. The Mind and Art of Henry Adams. Boston, Houghton Mifflin, 1957, pp. 20-21.
12 Adams, Henry. Democracy and Esther. N. Y., Anchor Books, 1961, p. 12.
13 Джеймс, Генри. Женский портрет. М., Наука, 1981, с. 147.